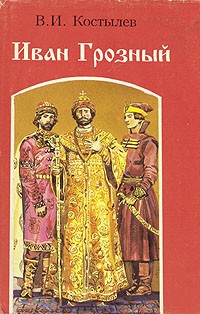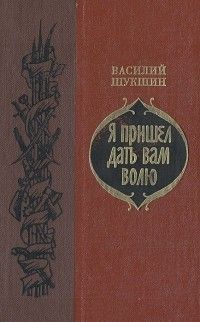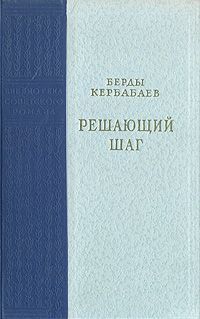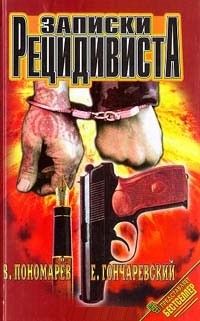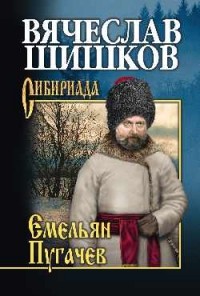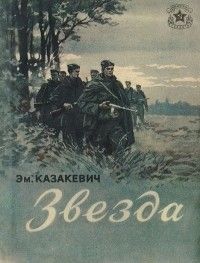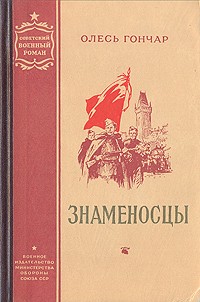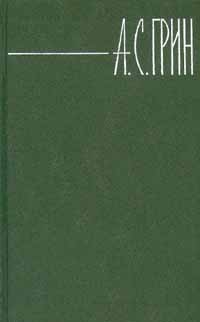Максим Горький «Сказки об Италии» (1910-13)
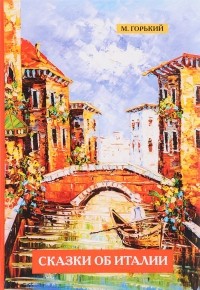
Пребывая на итальянском острове Капри, Горький получал вдохновение от лицезрения местных порядков. И видел такое, к чему сам исподволь стремился. Его буревестник парил над морем из человеческий волнений. Как в России, таким же образом в Италии, рабочий люд не находил успокоения от постоянной нехватки средств для обеспечения минимальных нужд. Пролетарий Апеннинского полуострова жил впроголодь, не имея способности обеспечить необходимым семью. Его детям не хватало даже на макароны. Как об этом не рассказать русскому читателю? Но Италия — страна таких нравов, что не всегда можно понять, как итальянцы вообще допустили, чтобы им кто-то мог диктовать волю? Настоящая жизнь всегда отличается от той, какая приходит к нам из легенд. Это касается и итальянского народа, известного по справедливым и жестоким нравам, отчего-то ставших уделом преданий.
«Сказки об Италии» — цикл из двадцати семи рассказов, опубликованных в следующих изданиях: «Запросы жизни», «Звезда», «Киевская мысль», «Новая жизнь», «Одесские новости», «Правда», «Просвещение», «Путь», «Русское слово», «Современник», однажды в «Сборнике товарищества Знание». По содержанию они касались непосредственно итальянских легенд, исторических зарисовок и фактического отражения современных для Горького реалий.
Если про нужды пролетариев наполнение сказок в рамки легенд не укладывается, то дополнительное содержание — этому вполне соответствует. Горький показал, как отец может убить сына уже за то, что тот обнажил способность предавать, нарушая законы гостеприимства, ни с чем другим не соотносясь, кроме кодекса честного человека, должного наказывать соразмерно преступлению. Показан в сказках муж, чья жена созналась в поступке его же отца, искавшего и находившего ласки невестки, вследствие чего муж убил отца, затем схожим образом расправившись с оказавшейся неблаговерной. В другой легенде парня убивают и отрезают ему руку за то, что он оскорбил честь девушки, посмев применить к ней физическое насилие.
Читателю следовало обязательно задуматься, куда делись те итальянцы, сурово воздававшие за унижение? Отчего теперь итальянец соглашается лечь на трамвайные рельсы, только тем требуя справедливого к себе отношения, никак не отправляясь убивать обидчика? Об этом мог думать и Горький, вспоминая, как часть социалистических партий в России стремилась придерживаться крайних мер, отвечая пролитием крови за всякое действие власти, казавшееся им несовместимым с должным происходить в стране. Если продолжать мысль, то не в Италии отец оказывался способен убить сына, и не сын — отца. Отнюдь, за жарким пылом итальянских легенд прояснялось непонятное осознание того, что пылкий нрав свободы предков привёл к закостенению мысли потомков, тогда как в России обуздание крепостным правом смиренного народа привело к его озлоблению, к возможности итальянским легендам найти место в реалиях Российской Империи.
Изменил Горький и отношение к матери, показав совсем иную женщину, нежели в романе «Мать». Женщина, покорная воле сына, уступила в рассказе место человеку, способному принимать твёрдые решения, вполне осознавая, насколько сын недостоин жизни, окажись он предателем устремлений и идеалов не только её, но и всего народа в целом.
В духе такого созерцания действительности находился Горький на острове Капри. Он соотносил былое, настоящее и старался разглядеть будущее. Что ему при этом виделось — о том говорится в цикле «Сказки об Италии». Только после читателю становилось ясно, когда все рассказы объединялись под одной обложкой, насколько былое одной страны являет текущее положение другой, хотя всё кажется смешанным в не совсем правильных пропорциях. А может ни о чём подобном Горький не думал, сложив повествование так, как ему показалось необходимым.
Автор: Константин Трунин