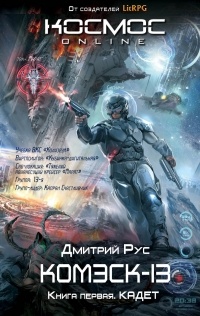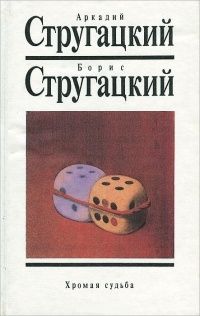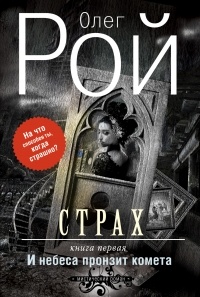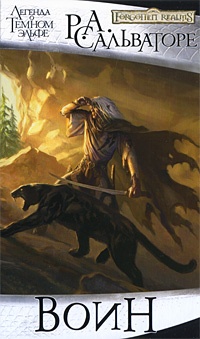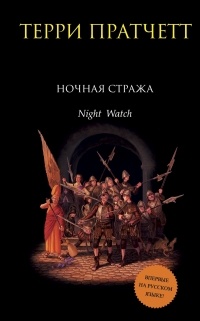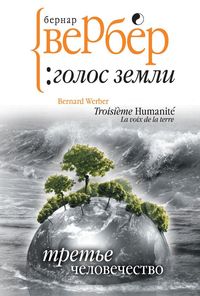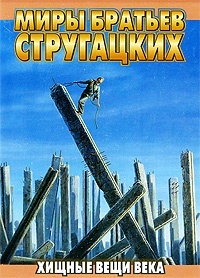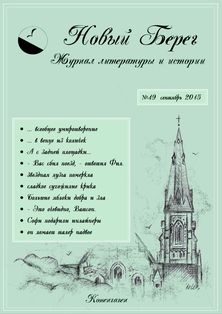
Попробуй найти себя в мире будущего. Кто ты и что из себя представляешь? А может не стоит размышлять о том, что никогда не наступит? Завтра всё исчезнет — человек начнёт новое движение наверх. Ему суждено подниматься и опускаться, пока его не заменит другая форма жизни или пока хаос не поглотит планету, следуя за схлопывающейся Вселенной.
Всё началось с рая. Человек пребывал в идиллии с самим собой. Пока ему не захотелось разрушить идеальный порядок вещей. Последовали годы страданий, так и не закончившиеся до сих пор. Человека продолжает раздирать изнутри чувство противоречия и стремления противопоставлять себя обществу. Год за годом, поколение за поколением — совершаются одни и те же ошибки. Век за веком ничего не меняется.
Сможет ли человек добиться идеального устройства общества? Когда отступят болезни, забудется нищета и каждый сможет заниматься своим любимым делом. Нечто подобное уже случалось раньше, но мгновенно разрушалось или извращалось в угоду стремления человека заботиться, в первую очередь, о собственном благополучии.
Человека ждёт два пути развития — тотальная деградация или моральное преображение. События XX века показали невозможность достижения высоких идеалов, они же разрушили ещё один вариант предполагаемого рая — коммунизм.
Остаётся надеяться на науку. Человеку суждено стать творцом собственной судьбы. От его умения преображаться зависит будущее. Прогресс остановить нельзя: всё замерло в ожидании новых достижений.
Прекрасный пример идеального будущего создал Леонид Костюков. Повесть «Пригодные для жизни слои» воссоздаёт реалии рая, либо коммунизма — кому как больше нравится. Погружение в утопию происходит постепенно — автор неспешно раскрывает перед читателем детали своего мира.
Место действия — Москва, ограниченная кольцевой автомобильной дорогой. Читатель так и не узнает, что именно происходит вне Москвы, поскольку автор не ставил перед собой такой задачи. Ясно одно — нравы там дикие, кем бы те места не населялись. Для повествования это не имеет значения.
Самое главное — человек сумел побороть смерть, но поплатился за это невозможностью продолжать род. Теперь его окружает полностью интерактивный мир: взаимодействовать можно с любыми поверхностями. Достичь этого удалось благодаря повсеместной кибернетизации.
Жители города не ограничены в средствах — на их счетах неисчерпаемая сумма наличности. Однако её нельзя суммировать. Это позволило добиться уравнения всего населения. В городе множество мест для проведения досуга, где можно почувствовать себя полноценным членом общества.
«Идеальная среда для обитания!» — скажет читатель. — «Это действительно пригодные для жизни слои. Хочу дожить до наступления этого времени и проводить время в бесконечных развлечениях». Но подумай, читатель, надолго ли тебя хватит? Ты будешь радоваться жизни первый год такого существования, может быть даже десять лет. А дальше? Неужели и через сто лет не наскучит так жить?
Можно обратиться к ветхозаветной истории о рае. Согласно которой человек просто обязан совершить нечто такое, вследствие чего понимание идеала будет навсегда разрушено. Так и в городе будущего найдутся люди, пожелавшие выйти за рамки допустимого.
Нет, пресытившиеся не станут образовывать секты самоубийц, пропагандируя новую религию, согласно которой только смерть сможет дать человеку возможность перейти к следующей форме существования. Скорее людей заест скука и они начнут совершать безумства.
Действующим лицам повести чужды идеи экстремалов, им нужно всего лишь пройтись по городу, чтобы набраться впечатлений. Их желание — проветрить головы от застоявшихся мыслей. Происходящие с ними события ставят их перед множеством вопросов, на часть из которых автор даёт честные ответы.
Наверное интересно спрашивать автобус о маршруте, извиняться перед столом за поставленные на него локти и мило беседовать с давно не виденной информационной стойкой перед входом в метро. Можно остановиться перед деревом, разузнав его мысли о сегодняшней погоде, состоянии его функций, а также о том, сколько раз оно было отформатировано. Встреченная собака-киборг может поведать увлекательную историю о прошлых жизнях, если её память не была очищена от подобных воспоминаний.
Безусловно, скука обязана одолеть людей. Останется забавляться стихотворными вечерами или наедаться до отвала в точках общепита. Почему бы и нет. Мир доступен для удовольствий.
Повесть «Пригодные для жизни слои» содержит в себя малую толику философии. Костюкова больше интересовало увидеть в Москве будущего Москву настоящего. Представленные в повести слои мало отличимы от нынешних. Такие же фастфуды, рестораны, метро, зона отдыха и тёмная сторона.
Единственный посторонний элемент в утопии Костюкова — это люди. Они кажутся лишними в царстве идиллии, неся в себе стремление разрушать и поступать согласно личным убеждениям. Не может человек подстроиться под правила и поступать сообразно им, какие бы общество не вводило ограничения. Обязательно найдутся те, кто собственные желания будет стремится применить ко всем сразу.
В переменах не было бы ничего плохого, не причиняй они страдания некоторой группе людей. Костюков балансирует на грани, стараясь продлить существование утопии. Неверный шаг легко разрушит шаткое равновесие и всколыхнёт массу противоречий, погрузив некогда идеальный мир во мрак.
С позиций XXI века можно предугадать технические особенности прогресса, но никогда не получится представить развитие общества. Это настолько тонкий инструмент, владеть которым человек никогда не научится. Каждое десятилетие кардинально отличается во взглядах от предыдущего, а значит никогда не наступит такого, чтобы человек смог в течение столетий сохранять свои взгляды в одном и том же состоянии.
Костюков смотрит иначе. Для него достижение человечеством утопии — реальность. Он не говорит о побудивших людей мотивах. Среди них могла быть мировая война или обособление Москвы от остальной планеты. Только в случае взятия для рассмотрения отдельного социума появляется возможность совершить невозможное. Перспектива расслоения человечества выглядит удручающей, но если это будет сделано во благо, то лучше уцелеть хоть кому-то, нежели никому.
Возможно именно по этой причине читателю не сообщается информация о ситуации вне Москвы. Может и не осталось от планеты ничего, кроме одного города. Как знать, не война ли с киборгами послужила тому причиной? Всё это останется домыслами, дабы не разрушать идеализированное представление.
Если отринуть посторонние мысли и принять свершившиеся за факт, то нужно понять насколько оправдано дарование Костюковым человеку бессмертия. По своей сути, бесконечная жизнь — это самое страшное проклятие, о чём люди не желают задумываться. Осознав новые возможности, человечество стремительно понесётся в пропасть, лишённое страхов и религиозных предрассудков. Понимание Творца утратит значение — сам человек будет решать свою судьбу.
Читатель подсознательно будет искать способы разрушить выстроенный автором идеальный мир. Ему ближе понимание антиутопий, где — парадокс — читатель наоборот надеется на благополучный исход. Пресыщение одним толкает на поиски новых впечатлений. И при этом человек не желает допускать перемены в устоявшейся жизни, укоряя себя за погружение в рутину и общий застой общества. Часть аналогичных противоречий использует и Костюков.
Действующие лица повести осознают нехватку свежих идей в обществе. Связано это с отсутствием новых поколений. Раз нет детей, значит некому высказывать неудовлетворение. Достигнутая однажды, утопия превратилась в болото, откуда выбраться крайне затруднительно. Нужно приложить усилие — тогда настанет время для реформ.
Сами того не ведая, герои повествования тянутся к знаниям, обладание которыми обязательно приведёт к краху. Их желание обрести способность продолжать род — губительно. Однако, автор не придаёт этому значения.
Москва резиновая — так следует понимать неограниченное количество доступных её жителям ресурсов. Из ниоткуда в никуда — девиз повествования. Сорванный плод познания ранее привёл к изгнанию из рая. Что будет на этот раз?
Константин Трунин
Литературно-общественный журнал
«Новый Берег», март 2016
Автор: Константин Трунин
» Read more
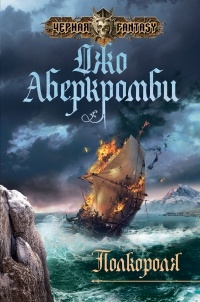
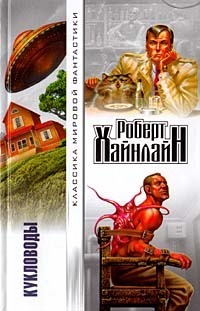
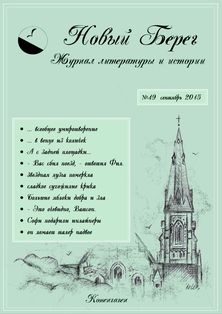 Попробуй найти себя в мире будущего. Кто ты и что из себя представляешь? А может не стоит размышлять о том, что никогда не наступит? Завтра всё исчезнет — человек начнёт новое движение наверх. Ему суждено подниматься и опускаться, пока его не заменит другая форма жизни или пока хаос не поглотит планету, следуя за схлопывающейся Вселенной.
Попробуй найти себя в мире будущего. Кто ты и что из себя представляешь? А может не стоит размышлять о том, что никогда не наступит? Завтра всё исчезнет — человек начнёт новое движение наверх. Ему суждено подниматься и опускаться, пока его не заменит другая форма жизни или пока хаос не поглотит планету, следуя за схлопывающейся Вселенной.