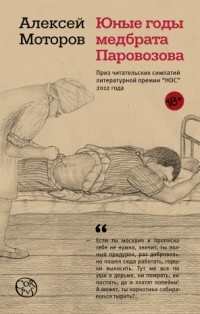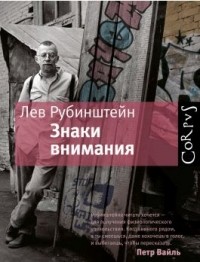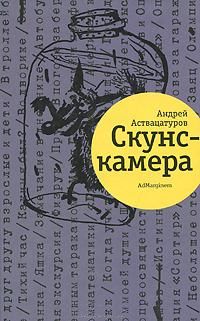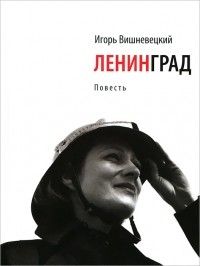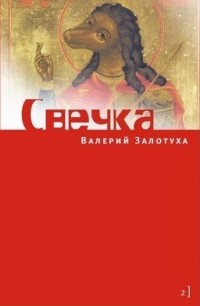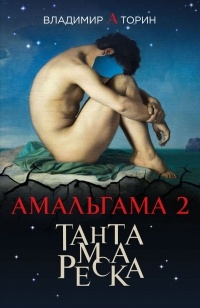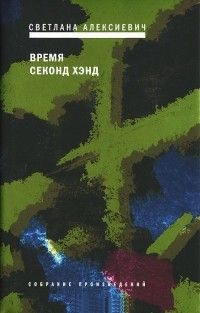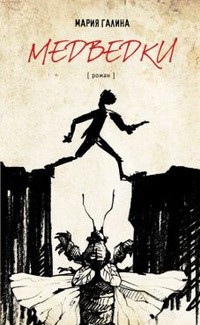Андрей Иванов «Харбинские мотыльки» (2013)
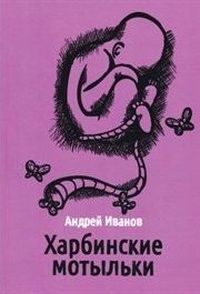
Золотая молодёжь XXI века — не является продолжением золотой молодёжи XX века, но кто возьмётся о том судить, когда желается видеть отражение прошлого в настоящем? Андрей Иванов не сильно расширил рамки понимания, экстраполировав известное ему положение вещей на канувшее в небытие. У него расцвели цветы позора, которые так старательно затаптывали несколько поколений. И расцвели так, словно с ними невозможно бороться. Не получится выкорчевать сорняк, собирающийся сидеть в почве неопределённо долгое время. Не получится возразить, поскольку укоренившиеся проблемы постоянно дают о себе знать снова, стоит людям забыться и отказаться принимать за факт данность, согласно которой исправить неприятную ситуацию к лучшему никак не получается. Потому быть проявлениям низменности в общечеловеческом социуме, как не закрывай на них глаза.
Стоит ли задаваться вопросами, наблюдая за низменностью нравов? Об эмиграции ли речь или о склонности любым способом вернуть попранную справедливость, Иванов станет воплощать на страницах произведения тот самый позор, буйно цветущий, сколько бы не стремилось общество к созданию благородного представления о себе. Сразу читатель сталкивается с элементами порнографии, обязательными для внимания. Чуть погодя находит в тексте сцены с употреблением наркотических веществ, такими же важными к пониманию происходящего. Последующие события носят прикладной характер, где уже не будет иметь значения, до какой глубины старался опуститься автор. Андрей сказал достаточно, чтобы показать, как полезен иной литературный труд в качестве удобрения.
Гореть быстро и не сгорать, таким видится происходящее на страницах. Предстоит ответить, стремятся ли действующие лица на огонь или они воплощают другие принципы, связанные со скоротечностью даруемых человеку десятилетий. Российская Империя пала, война национал-социалистов за мировое господство ещё не началась, всё повисло в ожидании, и ждать приходится в странах Прибалтики, наблюдая за остановившимся временем, получая посылки из китайского Харбина. И вот перед читателем поставлен новый вопрос: возможен ли фашизм с человеческим лицом? Не извращённый немецкими пролетариями, а рождённый в чистоте помыслов итальянских футуристов. Тема с острыми краями не позволяет предполагать благих вариантов, настолько всё окажется извращено. Но об этом до Второй Мировой войны думали иначе, не отягощённые ярким примером пошедшего по кривой дороге Третьего Рейха.
Может Андрею Иванову о том легко рассуждать, учитывая, что его мировоззрение формировалось в Эстонии. Прошлое является тонким инструментом, должным использоваться с особой осторожностью. Если где-то с опаской говорят о фашизме, то только не в странах Прибалтики. Подобная литература порою исходит от молодых русских дарований, не ощущающих пропасть под ногами, либо от советских писателей, забывших о берегах. При этом все понимают, как легко обернётся гневом сообщённое ими внимание, без различия, каким важным считалось затрагивать минувшее, должное иметь обязательную осуждающую окраску происходивших некогда зверств. Такого за Ивановым не отмечается, подобный гнёт не касается его размышлений, ибо мысль не встречает сопротивления.
Андрей должен был понимать, и он понимал, заставляя героя повествования отказываться от приобщения к фашиствующим элементам. Не из боязни попасть под осуждение, а по причине испуга, так как он не был готов к преследованию со стороны властей и принятию наказания, какими бы благими помыслами не могла обернуться затея. Бороться с Совдепией одно, поддерживать античеловеческие устремления — совершенно иное. Всё-таки чувствовал главный герой берега, как ощущал оные и описывавший его жизнь автор. В какой бы сумбур он впоследствии не скатился, всё-таки Андрей Иванов сумел разрешить противоречия и отказаться от шага в сторону саморазрушения.
Автор: Константин Трунин