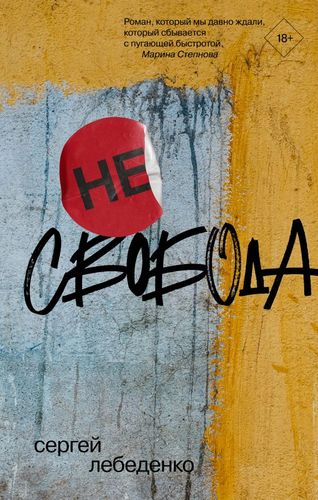Георгий Панкратов «Дебют. Как НЕ стать писателем» (2022)
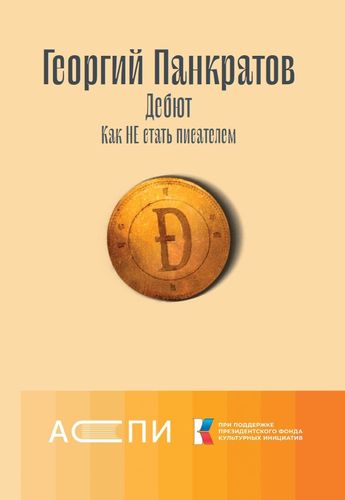
Панкратов не меняется. Каким он был в 2015 году, таким остался и спустя семь лет. Вновь читателя ожидает пространное изложение мыслей в духе приснопамятного лытдыбра. Вновь Георгий вспоминает про профессиональные обязанности грузчика, мечтающего о большом жизненном успехе, теперь в качестве обретения писательской славы. Но на этот раз всё обёрнуто в форму беллетристики. Может показаться, автор говорит о собственной жизни, создав для восприятия подмену, переиначив фамилию главного героя на Стократов. Всё же Георгий писал о самом себе.
Что его не устраивает в жизни? Он желает быть писателем. Как он пытается им стать? Выходит на читателя через литературные премии. Получается ли у него? Вовсе нет. Как он относится к данному обстоятельству? Пребывает в постоянной депрессии. И вот Георгий решает написать, каким образом с ним однажды поступили в 2014 году. Тогда он — будем считать за начинающего писателя — рассчитывал на успех в премии «Дебют», став одним из трёх претендентов, вошедших в короткий список номинации «Крупная проза». Фактически его прокатили, разделив победу между двумя другими номинантами. После такого провала Георгий решил завязать с писательством.
Читатель не может понять, с какой стати вообще имеет смысл возлагать надежды на литературные премии? Во-первых, в жюри находятся не совсем компетентные люди, имеющие предвзятое отношение к процессу создания художественных произведений. Может им по нраву безудержный абсурд? Или они придерживаются неких нестандартных мыслей касательно мироздания? Во-вторых, премия должна быть действительно важной — вроде Нобелевской — и то, став лауреатом оной, в редком случае получишь читательское признание. Может будут читать и помнить в течение пяти-десяти лет, после чего забудут и никогда более не вспомнят. Важнее для писателя иное обстоятельство — материальная поддержка. Панкратов скорее нуждался в деньгах, нежели в читателе.
Георгий обязательно выразит гневное отношение к таким мыслям. Он желал писать, иметь обратную связь, быть читаемым. А если его уже читали прежде? Например, есть такой читатель, совершенно случайно ознакомившийся с текстом произведения «Чувство рохли». Теперь читателю предложили другой труд от Панкратова — собственно «Дебют. Как НЕ стать писателем». Появится ли желание знакомиться с прочими произведениями автора? Только при условии отсутствия там всё того же повествовательного настроя, продолжающего оставаться неизменным. Даже кажется — Георгий пишет автобиографию. И дело уже читателя, насколько он имеет желание знакомиться с мыслями человека, чьи литературные произведения не могут обрести успеха.
Может есть примеры, на кого следует равняться? Например, Стивен Кинг утверждал, будто первые произведения писал не ради денег, ему просто нравился процесс. Или Роулинг, изначально писавшая в стол, без надежды быть опубликованной. Или Толкин, всего лишь сочинявший сказки детям на ночь, вовсе не мысливший выставить оные на всеобщее обозрение. Или иные писатели, чьих имён мы не знаем, тогда как они продолжают создавать произведения, причём действительно качественные и интересные, про которые не суждено узнать в силу отсутствия о них широкой информации. В конечном счёте, писателей много. И только Панкратов решил выразить обиду, пожаловавшись на несправедливое к нему отношение.
Жизнь — дорога из случайных совпадений. Не может каждый рассчитывать на успех в делах. И уж точно никто не пожалеет, сколько о том не проси. Да и какой толк от проявления сочувствия в виде жалости? Нужно оттачивать писательское мастерство! Ведь не так важно сколько ты написал, порою в памяти остаётся одно-единственное произведение. И как знать, написано ли оно уже, или его время ещё не настало.
Автор: Константин Трунин