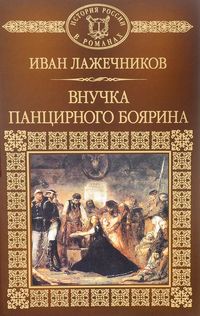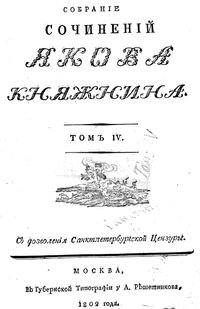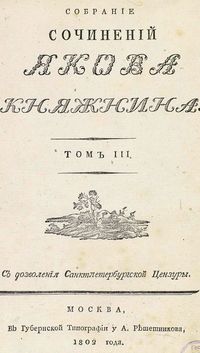Александр Сумароков «Вздорщица» (1770-75)
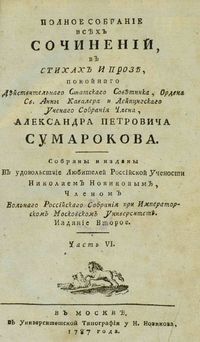
Сочинения Сумарокова продолжали изобиловать сумасбродством действующих лиц. Зритель должен был смеяться, не находя отражения истинного положения дел. Кто поверит, что барыня может вести себя подобно юной девушке, весьма вздорной по присущему ей нраву. С утра она желает одного, в обед требует противоположного, чтобы вечером захотеть ещё нечто прежде неведанное. Возникнет необходимость, так укажет мужу на дверь, а то и дочери откажет в праве на семейное счастье. Доходит до того, что не выдерживают слуги, без зазрения дерзя хозяйке. Осталось найти Дурака для уравновешивания, показывая от его лица вздорный нрав барыни.
Находились среди зрителей верящие Сумарокову. Может кто-то имел похожие примеры из собственной жизни. Скорее всего так и было, только на сцене была представлена ситуация с максимально возможным абсурдом. Мотивацию своих действий барыня определяла одним желанием совершения пришедшего на ум. Ей без разницы, ежели время завтрака, если она желает отведать пищу посытнее. Так же безразлично, к чему приведут любые её действия. Лишь бы огорошить окружающих людей новым требованием. Ничего более не имеет значения.
Линия поведения барыни показывает уровень умственного развития. Когда говорят, что она не в своём уме, то она ответит точно таким же образом. Сказать так она может слугам, дочери, мужу, даже Дураку. Сказала бы и лицам царских кровей, присутствуй таковые на сцене. Никому не дано найти управу. Остаётся единственное решение — пойти на хитрость. Может тогда барыня смирится с невозможность продолжать противодействовать.
Пусть вздорщица распоряжается по хотению. Она слишком наскучила окружению, готовому привести барыню в чувство осознания происходящего. Коли хозяйка рада обманываться, тогда будет подготовлен обман. Нельзя позволить вносить разлад в свадьбу дочери, а также в любовные отношения слуг. Не получится смириться с её нравом, важно действовать наперёд. Какое лучшее средство приструнить человека? Необходимо навязать ему обязательства. Допустим, заставить подписать бумагу с соответствующим содержанием. Сомнителен положительный результат такого поступка, но для комедии в одно действие долгих рассуждений не требуется.
Развязка наступает быстро. Зритель уже понял, какой разлад в жизнь вносит вздорщица. Необходимо увидеть благоприятное завершение происходящего на сцене. Это должно реализоваться с помощью потакания прихотям барыни, либо нахождением способа избавиться от бесконечных претензий. Сумароков сразу выбрал путь борьбы, настроив против хозяйки всех действующих лиц, прямо отвечающих на каждое происходящее сумасбродство. Барыню всё равно не вразумить, ежели всем она указывает их место, в том числе и мужу, с чьим авторитетом никогда не согласится считаться.
Зритель понимает. У вздорщицы особый склад ума. Предполагается, будто она — единственный ребёнок, все её прихоти удовлетворялись. Не испытывая горестей, вышла замуж и продолжает жить детским восприятием мира. Так у Сумарокова опять получился инфантильный персонаж, доставляющий множество неудобств. Остаётся думать, будто, используя таких действующих лиц, получится вызывать смех у наблюдающих за происходящим на сцене. Зритель и вправду будет смеяться, но только над взбалмошными выходками, тогда как завершение пьесы ничего не даст, кроме обозначения поставленной проблемы.
Всему наступит благоприятное завершение. На вздор управа всё-таки найдётся. Не самым правдивым окажется финал. Зато счастье придёт в дом вздорщицы. Логично предположить развитие событий в виде нежелания смириться с произошедшим. Следующий день принесёт гораздо больше недоразумений, нежели Сумароков использовал для создания комедии. Не могло так просто закончиться. Обязательно последуют козни, ведь как не унимай вздорных людей — им то не по уму.
Автор: Константин Трунин