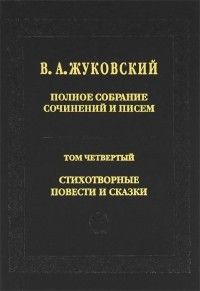Иван Тургенев «Где тонко, там и рвётся» (1848)
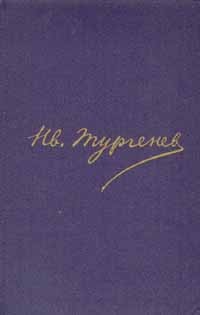
Когда вспоминают пьесу «Где тонко, там и рвётся», обязательно ссылаются на французскую драматургию, особенно в лице Мюссе. Тому есть объяснение. Во время написания Тургенев находился в Париже. Определением для данного литературного труда становится слово «проверб», должное пониматься в качестве прямого перевода — «поговорка». То есть имеется в виду, что содержание произведения раскрывается через название. Соответственно, Иван должен был так составить действие, чтобы читатель сделал вывод: где тонко, там и рвётся.
Насколько вообще проверб оказывал влияние на русскую драматургию? Можно вспомнить пьесы императрицы Екатерины II, особенно её переводы из Шекспира. Но читателю лучше знакомы работы другого драматурга, поныне считаемого за лучшего мастера по составлению драматургических произведений, — это Александр Островский. При этом нужно учесть важный момент — творческая деятельность Островского толком началась лишь с 1849 года, тогда как Тургенев составил пьесу-проверб годом ранее.
Основное, к чему следует проявить внимание, — не к наполнению произведения. Достаточно исходить из названия, тогда как более глубокое изучение пьесы пусть остаётся уделом тургеневистов. Важен другой факт — неприятие пьесы публикой. Дело было не в цензурных правках. Пьеса изначально написана не тем образом, способствующим её восприятию. Можно сослаться на тех же тургеневистов, приводящих в пример французскую литературу, Мюссе, вплоть до ссылок на Стриндберга. Проще говоря, уходя от разговора касательно непосредственно пьесы. Этим же занят автор сих строк, не сумевший найти в провербе Тургенева примечательных черт.
Так к чему всё-таки нужно проявить внимание? Вероятно, к росту интереса у Ивана к отражению аспекта взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Почему бы не проявить внимание к совсем обыденному явлению — сватовству. Тема кажется не самой трудной в воспроизведении, если есть малейшее умение наблюдать за жизнью. И зритель в театре не будет скучать, наблюдая за развитием отношений.
Не стоит исключать и пересмотр Тургеневым позиций. Разве не является лучшим средством сладить с цензурой — сбавить накал откровенности? Тем самым получится найти общий язык со всяким противником, убедив в отсутствии стремления к обличению нравов. При этом требуется научиться угождать, направляя разговоры в том ключе, который окажется угоден тому или иному литературному критику. И вот с этим у Ивана не задалось. Он писал, ни на чём не расставляя акценты. Результатом стал полной провал. Дважды поставленная, пьеса перестала быть востребованной.
Читатель должен возразить, усомнившись в необходимости угождать литературным критикам. Отчасти придётся согласиться, тут же возразив! Любое литературное произведение должно иметь потенциальную аудиторию, от заинтересованности которой зависит успех или забвение. В годы Тургенева важное значение имели периодические журналы, вроде «Северной пчелы», имевшей право первой публиковать рецензии на театральные постановки. Часто так получалось, что воля Фаддея Булгарина, Николая Греча или Рафаила Зотова имела определяющее значение. Вырази они отрицательное впечатление, как зритель не пожелает посещать театральное действие по раскритикованной пьесе.
Сам Тургенев прохладно относился к провербу. Он не пытался сгладить цензурные правки, не внося изменения и в последующих изданиях, разве только добавляя полностью изъятое. Пьеса оставалась такой, какой она отвергалась зрителем, читателем и её автором. Для пущей убедительности скажем, данная поговорка вошла в одно из изданий Некрасова в серии «Лёгкое чтение». Про прочие особенности пьесы умолчим — они связаны как с изменением личных предпочтений Тургенева, так и с другим подходом к творческому процессу, случившимся за восемь последующих лет.
Остановимся на мнении: не стоит искать золото, придавая ценность каждому камушку, пускай и золотому.
Автор: Константин Трунин