Александр Мирер «Главный полдень», «Дом скитальцев» (1969-76)
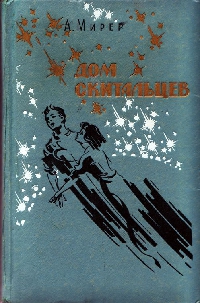
Советскому читателю, который не имел возможности познакомиться с творчеством Роберта Хайнлайна и Клиффорда Саймака, произведение Александра Мирера могло показаться за уникальное предположение о допущении вторжения на Землю со стороны инопланетян, используя метод паразитического контроля над человеческим разумом. Но сам Мирер просто не мог не знать про творчество этих американских фантастов. И если «Пересадочная станция» не столь интересна в плане существования на планете некоего портала, служащего за перевалочный пункт для межзвёздных путешествий, то уж «Куколки» Александр точно читал, на свой лад переосмыслив сюжет. Можно даже сказать, Мирер пошёл от противного, если был знаком с «Кукушками Мидвича» за авторством Джона Уиндема, использовав идею наоборот. Что до общего фона, то пресловутую «Войну миров» Герберта Уэллса никто не отменял. Поэтому нужно полагать, будто Александр решил совместить всё под одно, ориентировав чтение на детскую аудиторию. И именно ребёнку дилогия от Мирера подойдёт больше всего, тогда как более взрослый читатель не найдёт на страницах чего-либо способного привлечь внимание.
Что видит читатель? Малопонятную суету и беготню. Зачем? Какие ещё трёх-, пяти- и более угольники? На первых порах сложится впечатление об описании людей с психологическими отклонениями. Вскоре всё станет на свои места. Основное, требуемое к усвоению из вступительной повести — инопланетянами готовится вторжение. Читатель волен совершить неуместное, отправившись за воспоминаниями в исторические документы, проясняя, каким образом монголы собирались нападать на Русь. Подготовка заняла продолжительное время, в основном связанная с интригами самих монголов, изнутри усиливших распрю между князьями. Нечто подобное прослеживается и у Мирера. Только инопланетяне умеют подчинять разум людей, стирая абсолютно все воспоминания. Почему это происходит в форме разведывательной операции — непонятно. Если всё настолько легко, вторжение может пройти без предварительной подготовки. Другое дело, о чём читатель задумывается в любом произведении о контактах с инопланетянами: почему пришельцев должны интересовать именно люди?
И всё же Мирер оригинален в идее не только извратить идею Уиндема, он пошёл далее Хайнлайна и Уэллса, нанеся удар в сердце врага. Советский читатель точно приветствовал идею отправить детей на выполнение смертельно опасной миссии. Они будут действовать среди инопланетян на их территории, выведывая секреты и разрушая основы инопланетного быта. Это своего рода использование сверхспособностей — инопланетяне не могут поработить разум детей. По какой именно особенности? Предположения самого Александра не встретят понимания со стороны читателя. Разве только отсылка к «Войне миров» способна внести ясность — пока человек думает о наличии у него возможностей, основную работу проделают другие обитатели нашей планеты. Просто в детях есть то, чего нет у взрослых. Принимать это нужно без возражений.
Читатель волен иначе трактовать содержание. Допустимо увидеть под личинами инопланетян американцев. Они подчиняют разум некоторых советских граждан, испытывая силы на возможность овладеть мыслительными способностями остальной части населения. Разве такая интерпретация лишена смысла? Надо полагать, под таким видом рассказанное Александром Мирером становилось очевидным для каждого современного ему читателя. За тем исключением, что на страницах вторжение удаётся остановить, тогда как в жизни исход получится гораздо печальнее. Надо ли полагать такую трактовку за истинную? Ответ будет отрицательным.
Примем за данность, Мирер адаптировал для советского читателя собственное видение ряда иностранных произведений. Получившийся результат был воспринят с воодушевлением. С течением времени дилогия стала забываться, совершенно случайно вспоминаемая благодаря тем подросшим впечатлительным детям, имевшим за счастье в юности познакомиться с «Домом скитальцев».
Автор: Константин Трунин





