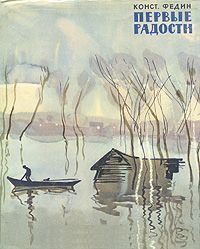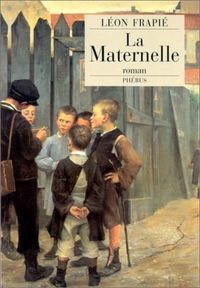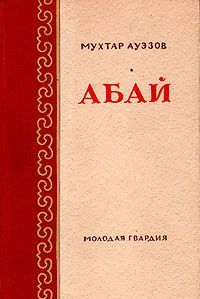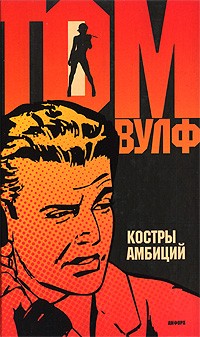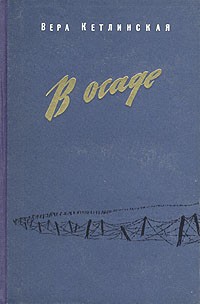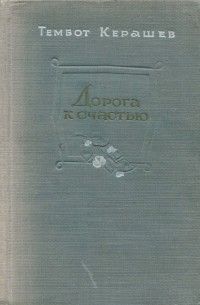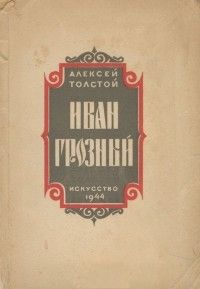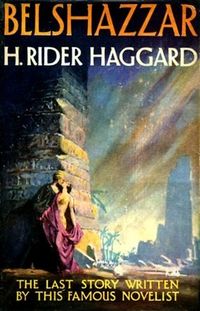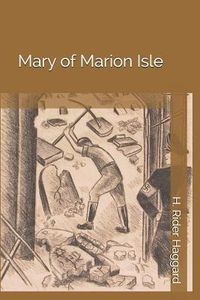Михаил Елизаров «Земля» (2014-19)
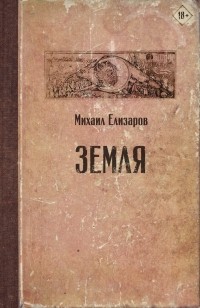
Написанному верить! Но зачем? Бумага всё стерпит! Всё ли? Мёртвые сраму не имут! А вы их спрашивали? Елизаров отошёл от темы магического реализма! Серьёзно? Он пожелал рассказать нечто о мире загробном, показав его через жизни живых! Вы сами-то в это верите? Это столь же верно, как утверждение: земля — есть одеяние для гроба! Что ещё? Выражение: если ты такой умный, почему ты такой мёртвый. Разве там так было? У Елизарова так! А в оригинале? Скажи! Такой бедный? Возможно! И как быть с самим Елизаровым? Читать и восхищаться! Может с тем же усердием приняться за чтение Стига Ларссона? Такого не знаем! Девушка с татуировкой дракона? Это не имеет отношения к Елизарову! Посмотрим…
На самом деле, как не находи сил для выражения мысли о романе «Земля», Елизаров написал продуманное произведение. Он повёл героя повествования с юных лет до лет не совсем юных, и не совсем зрелых. Герой пройдёт путь от скитальца по городам, вслед за неуживчивым отцом, вплоть до участия в разборках похоронных служб. На страницах постоянно будут возникать образы кладбища, как неизменной судьбы героя. Для него и песочница станет кладбищем, так как там будут хоронить насекомых и мелких животных. И службу в стройбате он запомнит, так как постоянно копал землю, в том числе и под гробы. Даже девушку полюбит, которая будет утверждать, будто уже мертва. Оттого и формируется мнение — особого разнообразия Елизаров читателю не предлагает. Однако, наполнение от этого нисколько не пострадало.
Нельзя говорить про «Землю» в общем, невзирая на однотипность раскрываемой Михаилом темы. Чем-то роман всё равно западёт в душу. Хотя бы необычной трактовкой происходящих событий. В той же песочнице никто не додумывался видеть место для захоронения. И о стройбате многие не имели представления, толком не понимая, каким образом устроен изнутри этот род войск. Да и технология земляных работ — тайна за семью печатями. Кто-то прежде задумывался о том, на какие классы делится грунт?
Магический реализм видится по присутствию в сюжете особых часов, отвечающих за жизнь главного героя. Если они остановятся — он должен умереть. Так читатель и не узнает, насколько приводимая в романе информация соотносится с действительностью, поскольку нет веры в возможность герою умереть, стоит ему забыть завести часы. Однажды Елизаров покажет надуманность этого. Единственное, чему следует верить, только часы остановят ход, о данном персонаже Михаил напрямую больше не повествовал, сообщая о нём опосредованные сведения.
Самое основное, из-за чего «Земля» может быть интересна, описание войн похоронных служб. И без того понятно, каким образом должен быть устроен этот бизнес, построенный на смерти. Описывать его особой надобности не имеется. Но почему писатели должны обходить этот момент стороной? Все, кто связан с похоронами, имеют право на место в литературных произведениях, особенно современных. Войны действительно разворачиваются, редко с жертвами, чаще основанные на необходимости передела сфер влияния, дабы всё сделать для того, чтобы вода текла под лежачий камень. Хороший похоронный агент всегда найдёт способ заработать. А хороший руководитель похоронной службы иногда способен достигать если не высших, то хотя бы местных эшелонов власти, занимая основную руководящую должность в отдельно взятом сегменте.
Тут более не будет слов, ибо написанному следует верить, ибо мёртвые сраму не имут, ибо это не должно касаться лично Елизарова. Одно точно — «Земля» не зря написана.
Автор: Константин Трунин