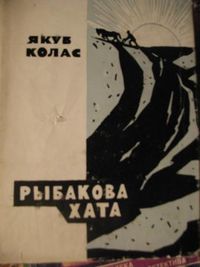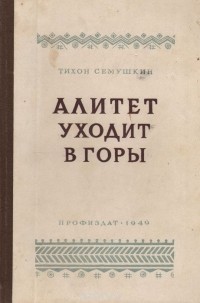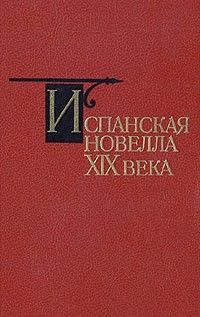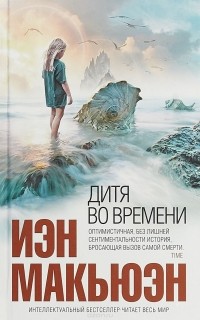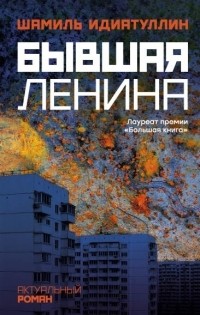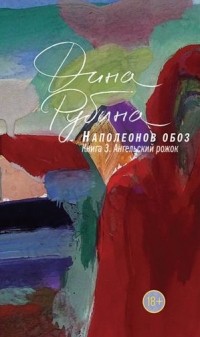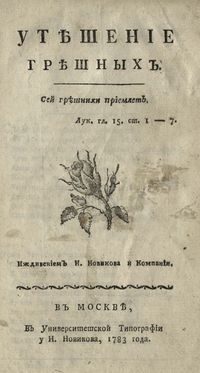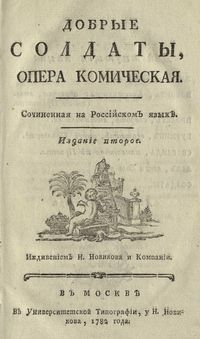Евгений Чижов «Собиратель рая» (2019)
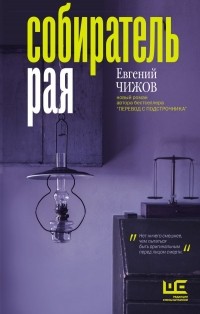
Евгений Чижов прав — человек боится потерять связь с прошлым. Для этого люди стараются всеми силами сберегать предметы старины. Но так кажется только на первый взгляд. На самом деле человек не ценит прошлого, ему важно малое, позволяющее доказывать нечто, кажущееся ему важным. Даже будет вернее сказать, что человек сам создаёт прошлое, как раз и прибегая к предметам старины, на собственный лад интерпретируя былое. Если людям позволить самостоятельно судить, не позволяя мысли встать на правильный путь выражения, они понесут несуразицу, не имеющую к действительности отношения. Только попробуй то кому-нибудь доказать… Поэтому, прошлое именно тогда и становится прошлым, когда никто не сможет с твёрдым убеждением пояснить, как происходило на самом деле. Если не вдаваться в крайности рассуждений, нужно смотреть на произведение Чижова без лишних эмоций, всё-таки на страницах автором показывалась жизнь людей, кому хочется сохранить имеющееся, для чего они вынуждены хранить частицы кем-то когда-то прожитых лет.
Основной пример необходимости сбережения прошлого — мать главного героя. Эта женщина практически слепа, умеет отличать тёмное от светлого, к тому же страдающая потерей памяти. Потому она способна жить лишь воспоминаниями, тогда как никакое из чувств ей не способно помочь. Раз за разом мать главного героя будет теряться в пространстве, редко встречая понимание в глазах окружающих, если и желавших понять, то оказывающихся лишёнными для того возможности. Причина кроется в банальном — никто не стремится удерживать в голове нагромождение фактов. Откуда людям знать, как назывались прежде страны, города и улицы? Зачем-то человек стремится создать комфорт ныне живущим, забывая про некогда живших. Для одних улица Ленина кажется анахронизмом, но и выхода из ситуации нет, так как возвращать первоначальное название глупо, а просто так переименовывать — ещё большая глупость. Иначе могут возникать ситуации, вроде имеющей место на страницах произведения, когда мать главного героя ищет дом на улице по её старому названию, находящийся буквально за углом, но никто не может подсказать.
Другой пример — сам главный герой, вместе с окружением из ценителей вещей прошлого. Читатель погружается в атмосферу блошиного рынка, имеющего ещё названия вроде барахолки и поля чудес. Там кипит собственная жизнь, совершенно непонятная посторонним. Если сам не варишься в подобном, никогда не поймёшь прелести обладать уникальными предметами. Причём, уникальность порою основана на зацикленности или психическом расстройстве, изредка на подлинной страсти. И над тем рынком, по воле автора, царит гений, всегда знающий подлинную цену вещей, взирающий на каждый предмет, словно сам им обладал в былом, из чего даже родится предположение, будто он знает всё о своих предыдущих жизнях, всегда рождаясь для того, чтобы быть именно в данном месте.
Подходить к чтению нужно с осознанием тут сказанного. Тогда всё встанет на свои места, иначе постигнет разочарование. Причина в самом авторе, уходящем в мыслях дальше, нежели следовало. Зачем потребовалось мистифицировать происходящее? Можно было показать трагедию человеческой жизни, обречённой прозябать ограниченный срок существования в бренной телесной оболочке, каким образом это показано в отношении матери главного героя. Всё прочее на страницах — дополнение к описываемому, не столь существенно важное, скорее дополняющее повествование. Согласимся, автору пришлось так поступать, может иной читатель сумеет найти в произведении такое, до чего Чижов не успел его подвести.
Пока же, пусть читатель задумается, насколько он создал личный рай, по которому сам о себе сможет вспоминать, и по которому будут рождаться воспоминания уже по нему.
Автор: Константин Трунин