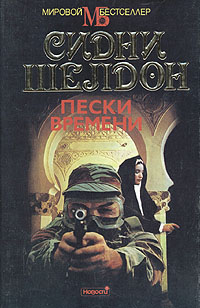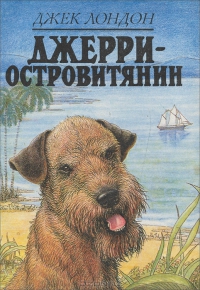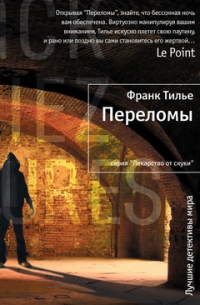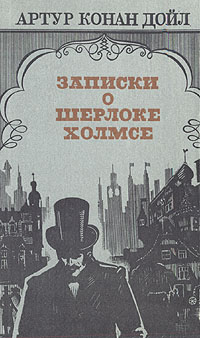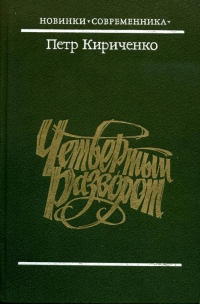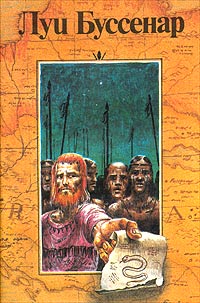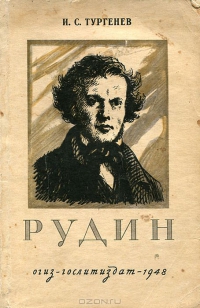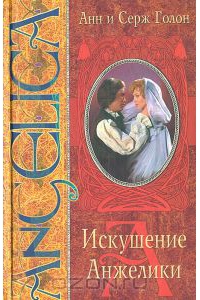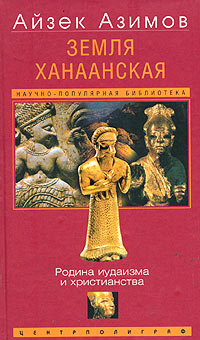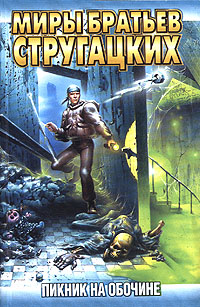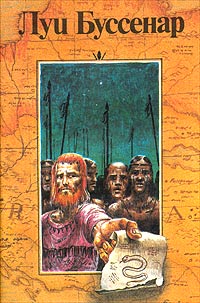
Можно ли достойно оценить вклад Луи Буссенара в познание загадок планеты? Кажется, труды французского путешественника и писателя — это прекрасная возможность взглянуть на окружающий мир свежим взглядом человека, чей век не проходит на одном месте и порой в четырёх стенах. Пускай, автор писал более ста лет назад и уже нет многого из того, свидетелем чего был сам Буссенар. Это ни в коей мере не сказывается на том полезном источнике познаний, позволяющим расширить кругозор. Предлагаемый читателю сборник содержит самое первое произведение автора «Десять миллионов Рыжего Опоссума. Через всю Австралию», успех которого позволил Буссенару продолжить эксперименты с пером, а также очень необычный роман «Французы на Северном полюсе», опередивший экспедицию Нансена, и даже, ведь такое возможно, был настольной книгой норвежского покорителя Арктики. Прилагаемый рассказ «Ягуар-рыболов» показывает Буссенара не только со стороны завзятого ценителя охоты на экзотических животных, но и любопытного наблюдателя природы, для которого желание добыть трофей уступает возможности узнать больше о происходящих процессах в животном мире.
1. «Десять миллионов Рыжего Опоссума. Через всю Австралию» — это не единое произведение, являющееся скорее набором историй, собранных автором под одной обложкой. Буссенар творил в то время, когда литератор видел только одну возможность для заработка — публикации в журналах. Кажется странным, но книги особым спросом не пользовались, да и не давали они того дохода, которого можно было добиться с помощью периодических изданий. Это сейчас писатель думает только о содержании книги, убивая в себе графомана и пытаясь сильно не расползаться мыслью по древу, ужимая всё до ужасно кратких размеров. А вот раньше… чем больше напишешь, тем больше получишь. Стоит ли удивляться, глядя на толстенные тома произведений практически всех французских авторов XIX века, особенно плодотворно изливавших слова на страницы, имея целью лишь увеличивать объём. Буссенар частично поддержал традиции сограждан, впитав в себя и дух Жюля Верна, часто путая понятие художественного произведения с энциклопедией (где ныне принято сводить непонятный термин к отсылке в сноски, там деятельные французы максимально точно делились деталями прямо в тексте, делая это неотъемлемой частью произведений).
Хорошо, что на Буссенара так сильно повлияла Австралия. Писатель сам говорит о наскучивших ему саваннах и пампасах, в коих приходилось часто бывать, покуда не решил он очутиться в таинственной Австралии, переживавшей очередную золотую лихорадку, притянув на свои земли калифорнийских добытчиков. Города начали быстро расти, наполняясь жителями. За золотоискателями потянулись все остальные, включая учёных, решивших нести свет науки на далёкий континент. Именно с кораблекрушения незадачливых профессоров и начинается писательская карьера Буссенара, описавшего со знанием дела не только спасение оборудования, но и встречу с аборигенами-каннибалами, выпившими заспиртованные мозги и не побрезговавшими выкопать свежезахороненный труп. И только спустя ещё одну историю о схватке между гринго и кабальеро, Буссенар принимается за в меру большую форму, знакомя читателя с историей того самого Рыжего Опоссума, чьи миллионы способны принести благо в отдалённые от океана земли континента. Стоит ли говорить о приключениях героев, столкнувшихся с самыми тяжёлыми условиями для приключения, рискующих жизнью, отправляясь в неизведанные края. Первый шаг для Буссенара прошёл успешно; хотя стоит закрыть глаза на часто встречающийся затянутый сюжет, так свойственный людям, впервые пробующим себя на творческой ниве.
2. 1892 год стал знаковым для исследователей Арктики. Некий русский товарищ на очередном заседании Королевского Географического Общества высказал важную мысль о покорении крайней точки Северного полюса. Эту идею практически сразу подхватил Буссенар, в короткий срок спланировав и написав роман «Французы на Северном полюсе», о якобы произошедшей экспедиции по покорению той самой важной точки. Повествование настолько достоверное, что читатель верит всему. Остаётся только понять — было это на самом деле или Буссенар всё придумал? Поскольку точных сведений собрать не получается, а человеком, которому впервые покорился географический северный полюс (но в действительности не покорился), стал Фритьоф Нансен, чья экспедиция началась в 1893 году уже после публикации Буссенаром книги, то остаётся только восхититься талантом писателя, чей ум досконально продумал все трудности приключения, что с большой точностью исполнил на практике Нансен. Как знать, может на борту «Фрама» был экземпляр книги «Французы на Северном полюсе».
Почему именно французы, а не кто-то иной? Буссенар решил собрать в придуманную экспедицию людей из одной страны, преимущественно из прибрежных провинций. Читателю предстоит познакомиться не с французами, а с бретонцами, нормандцами, эльзасцами, гасконцами, басками и другими, то есть с теми людьми, которые населяют Францию. Нравы и обычаи каждого из них отличаются самыми разными взглядами на жизнь и подходом к выполнению поставленных задач, поэтому читателю будет особенно интересно наблюдать за французской экспедицией, состоящей из столь отличных друг от друга французов. Но ведь интересно при этом то, что норвежец Нансен взял на «Фрам» только норвежцев, сделав это для роста национального самосознания, поскольку противоречия в унии Швеции и Норвегии всё более грозили вылиться через край, а тут такая возможность подлить масла в огонь.
Весьма занимательно Буссенар показывает эскимосов, чья прожорливость поражала внимание участников экспедиции. Взятый ими на борт эскимосский лоцман мог за раз съедать десять килограмм пищи, не гнушаясь ничем, особенно находя удовольствие в поглощении ещё тёплых сырых кишок убитого медведя, включая весь слой жира с тела: воистину, условия жизни на севере вырабатывают свои правила жизни. Если хочется пить, а снег при этом класть в рот нельзя, поскольку он обжигает слизистые, то эскимос легко вскрывает вены животных, насыщаясь кровью живого существа. Буссенар продумал не только привычки эскимоса, но и пищевой рацион всей команды, которой нужно было питаться особенно усиленно, восполняя потери энергии. Кроме еды команда была снабжена тёплой одеждой, а также тщательно разработан режим дня во время ледовых стоянок с учётом тяги ко сну в холодных условиях и требования вести наиболее активный образ жизни. Конечно, в своих размышлениях Буссенар мог опираться на ранние труды Нансена, задумавшего экспедицию на «Фраме» задолго до выхода книги.
Однако, если путь экспедиции Буссенар мог позаимствовать у Нансена, то как быть с теми обстоятельствами, когда в экспедиции Нансена случались повторения сюжета «Французов на Северном полюсе»? Ведь Нансен также нашёл погибший корабль соперничающей экспедиции, и его команда поедала собак в конце пути, когда еда подошла к концу. Нансен сперва добрался до Таймыра, после чего пошёл на штурм Северного полюса, а вот экспедиция Буссенара через Таймыр возвращалась, потерпев кораблекрушение, продолжив путь домой через сухопутные просторы России.
Удивится читатель многому, включая применение французами свежего изобретения соотечественника Депре, чей гений обосновал и доказал на практике возможность передачи электричества по проводам. Ледоколом корабль экспедиции Буссенара не был, но была пила, приводимая в действие электричеством, что очень помогло в покорении заданной точки, пробивая дорогу во льдах с помощью последних научных достижений. А как читатель отнесётся к такому высказыванию, что при покорении Северного полюса нужно вмёрзнуть именно в ту льдину, что будет двигаться на север, тогда ничего не делая можно добиться желаемого? Льдины постоянно дрейфуют, поэтому нельзя установить отметку о достижении, а если и установить или найти чью-то другую, то это уже не будет являться доказательством покорения.
Много удивительного случается, но отчего-то никто ещё не проводит параллелей между «Французами на Северном полюсе» Буссенара и экспедицией Нансена. Отныне исправлено.
3. «Ягуар-рыболов» на фоне больших произведений теряется. Можно долго говорить о том, что преследовал автор, делясь впечатлениями о встрече с ягуаром, мирно поджидающим рыбу, дразня её через поверхность воды с помощью длинного хвоста. Показать красоту природы получилось, обосновать преувеличение человеческих страхов перед большими кошками тоже. Такой крупный хищник, даже будучи голодным, может оказаться очень трусливым, оглашающим пространство вокруг себя жалостным рёвом из-за отобранной добычи. Так и хочется спрятаться за камнем, наблюдая рыбную ловлю пятнистой кошки с последующим побегом от незначительного тревожного шума, заставившего обронить долгожданный обед.
Красиво, познавательно, увлекательно — в этом заключается весь Луи Буссенар.
Автор: Константин Трунин
» Read more