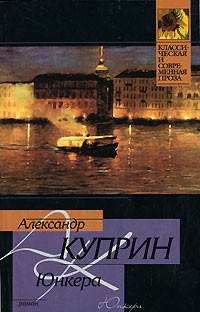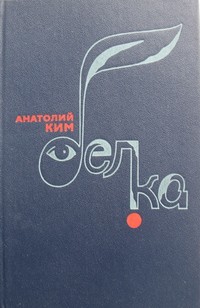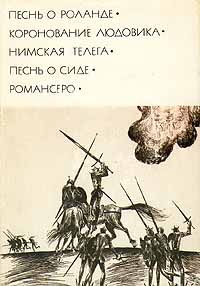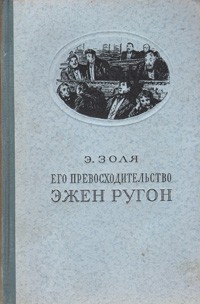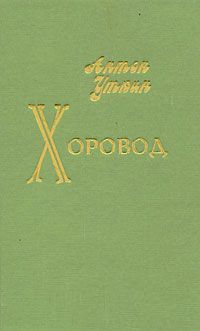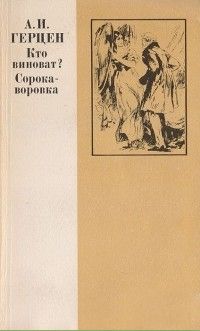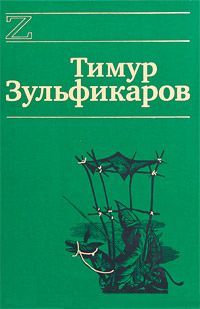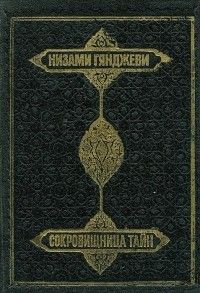Джек Лондон «Кража» (1910)
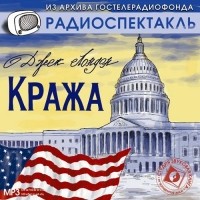
Капитализм схож с проказой — общество начинает гнить, если долго с ним соприкасается. Не менее он схож с раковым процессом — поглощает всё его окружающее, от него нельзя избавиться, не прибегая к радикальным средствам. При капитализме постоянно растут цены на товары и услуги, как гарантия хорошего самочувствия их производящих и оказывающих лиц. Стоит денежному потоку ослабнуть — случается кризис, служащий разрядкой для переосмысления достигнутого и возможности власть имущим и богатым укрепить достигнутое положение, улучшив собственное финансовое благополучие. По сути, общество само себя обкрадывает, не представляя, каким образом ситуацию можно исправить. В таких случаях всегда появляются доброхоты, желающие открыть людям глаза. Об одном из них Джек Лондон решил рассказать в виде пьесы.
Допустим, у человека есть компромат, способный объяснить гражданам прегрешения избранных ими людей. Кто из народных избранников оного не испугается? Кто согласится стать причиной обсуждения, поношения и неизбежного остракизма? Начнётся борьба, и хорошо, ежели обладателя информации не устранят или превентивно не опорочат. У Лондона проще — разборки происходят на уровне диалогов: случается любовь, разгораются семейные конфликты, каждый из героев минимум по разу оказывается в дураках. В итоге обязательно победит смирение с обстоятельствами.
А так ли важно, обличат власть имущих или позволят им далее работать «во благо»? Они себя считают частью народа, трудятся ради него и в силу необходимости «страдают» от переизбытка денежных средств. Выбери на их место других — ничего не изменится. Джек Лондон это наглядно показывает, Выводы из пьесы очевидны: во-первых, нельзя позволять капиталистам уподоблять пролетариат рабам; во-вторых, лучше обойтись меньшим из зол, нежели опрокидывать страну в хаос.
Компромат уже кажется бесполезным. Чехарда вокруг его обладания — пущенные кругом юмористические зарисовки с обязательными цитатами от имени Авраама Линкольна. Боролись американцы за справедливость, добились её и сами же посеяли семена новой зависимости. Лондон старается усилить впечатление читателя от произведения с помощью фраз о важности человеческого достоинства, до сих пор продолжающего оставаться на бумаге. Позитивных мыслей читателю вынести не получится — останется ощущение непреодолимой стены.
Выше стены только цены. Их неустанный рост приводит в недоумение рядовых людей, не понимающих, почему нельзя остановиться на фиксированных цифрах. Лондон легко объясняет правила подобной экономики. Люди тем хуже живут, чем меньше денег они тратят. И, соответственно, тем лучше живут, чем больше тратят. Сам же народ, богатея, беднеет. Приходится повышать стоимость оказываемых услуг, что приводит к ещё большей нужде в виде нехватки денежных средств. И в этом случае общество само себя обкрадывает. Решение определённо существует, но за всё время существования капитализма оно так и не было найдено.
Поучительная вышла у Джека Лондона пьеса. Читатель обязательно найдёт в ней что-то своё. Кому-то понравится сюжет, а кто-то поблагодарит автора за доступные ответы на всегда беспокоящие вопросы. Простых ситуаций не бывает — очень трудно и касательно капиталистического видения мира. Пусть это и странно, но человек желает видеть мир под аналогом Железной пяты, понимая под ней спокойное существование без зависимости от навязываемых сверху условий. Конечно, свобода зрима во всём, в том числе и в росте цен. На самом деле, человек давно раб системы, ибо погряз в долгах и выбраться из них ему суждено, в лучшем случае, лишь на пороге смерти. Однако, для уныния нет причин — ныне лучше, нежели вчера.
Автор: Константин Трунин