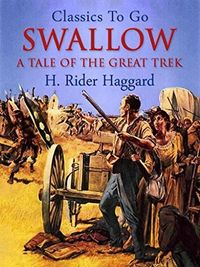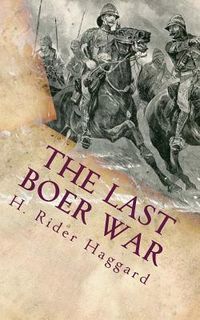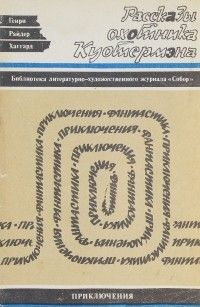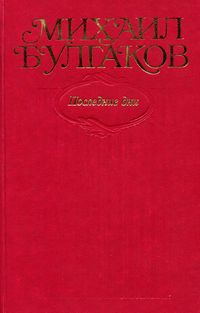«Послание на Угру» Вассиана Рыло (1480), Повесть о стоянии на Угре (конец XV века)
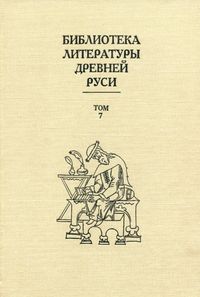
Пришла пора воздать татарам сполна. Иван Великий не мирился с мыслью допустить продолжать считать себя данником потомков монгольских завоевателей. Но как ему, находящемуся между двух противников, коими являлись Великое княжество Литовское и различные образования татарских ханств, найти силы и утвердить за Русью право на собственную независимость? Для того требовалась решительность. И вот этого как раз не имелось. Были необходимы убеждающие речи сильных духом людей. Одним из таковых стал Вассиан Рыло, архиепископ Ростовский, Ярославский и Белозерский. Он обличал трусость Ивана, обвиняя в греховном допущении заключения перемирия с ханом Ахматом. Исторически теперь известно, Иван не допустил непоправимого, после чего иго утратило значение для Руси в дальнейшем.
Вассиан имел изрядное количество аргументов. Он наполнял решимостью Ивана, пока ещё продолжавшегося именоваться по отцу — Васильевичем. Неужели возможен мир между Русью и татарами Большой Орды? А если и да, тогда как относиться к Великому княжеству Литовскому? Решимость Вассиана поддаётся объяснению, но от Ивана зависело, каким образом Русь продолжит существование. Уже не раз было такое, что военное противостояние могло привести к уничтожению государства. Прежде соперники благоразумно расходились по сторонам, не идя на сближение. Этого нужно добиться и на Угре. Единственное обстоятельство тогда могло действительно беспокоить Ивана, а именно заинтересованность Казимира (Великого князя Литвы и короля Польши).
Большая политика не имеет зависимости от локальных интересов. То, в чём Вассиан Рыло видел трусость Ивана, могло скрывать выжидание определённых событий. Иван не мог концентрировать силы на Угре, забыв о противостоящих ему противниках. Он вносил разлад в союз Ахмата и Казимира, не допуская возможности их совместных действий. Некогда подобная разобщённость уже спасала Русь, когда произошла битва на Куликовом поле. Тогда не хватило буквально дня, чтобы силы татаров и литвы объединились. Теперь Казимир и вовсе не нашёл возможности, отражая набеги крымских татар, бывших в союзе с Московским княжеством. Согласно данному пониманию истории, Вассиан мог сколь угодно ссылаться на Демокрита, повлиять на решимость Ивана он бы не смог.
Помимо послания Вассиана, имеется повесть о стоянии на Угре, сочинённая позже произошедших событий. Неизвестный нам летописец составил текст для летописи, должный и теперь являться её составной частью, если бы не желание определённых исследователей литературы Древней Руси. Пролить свет на события сия повесть способна в меру своего наполнения, тогда как усвоить её содержание каждому придётся самостоятельно. Информативность повести бедна, но в качестве исторического свидетельства очевидца тех дней — бесценна.
Считать ли теперь, будто одержать верх помогло послание Вассиана? Слова архиепископа оказались столь убедительными, что Иван предпочёл испытать судьбу, положившись на должную помочь Руси веру в Бога? Как не хватает в русских письменных источниках описания, согласно которому Иван уходил молиться, лил слёзы, а затем крушил врагов, едва ли не собственноручно насаживая на острие копья самого Ахмата. Именно так прежде писали о деяниях князей, решимостью и отвагой способствовавших изгнанию из пределов своих земель иноверных захватчиков. Но XV век к тому уже не располагал, потому приходится внимать посланиям религиозных деятелей, а затем и скупому на фантазии летописцу.
Стояние на Угре — важное для правления Ивана Великого событие. Проводя политику по укреплению позиций Руси, он сумел противостоять очередному нашествию татар, не раз становившихся причиной повсеместного разорения. С той поры Русь сама определяет, как воздать поправшим право её на существование.
Автор: Константин Трунин