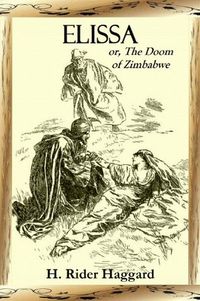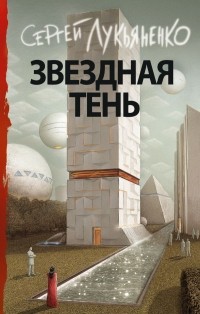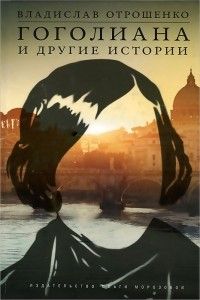Райдер Хаггард «Чёрное сердце и Белое сердце» (1900)
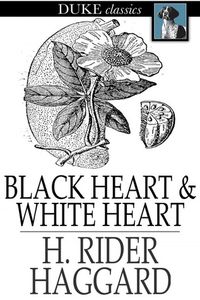
Нельзя писать одинаково хорошо. Порою случаются неудачные пробы пера. Что с ними делать? Некоторые писатели сжигали. Но профессиональный автор на такой шаг пойти не мог. Неважно, насколько получившийся результат удовлетворял его эстетические чувства. Чаще оказывалось, произведения пишутся из-за желания заработать средства на существование. Хаггард сам о том говорил, для чего допустимо напомнить о «Завещании мистера Мизона». Писатель ставится перед необходимостью создавать новые истории, иначе ему грозит разорение. Не будет причиной для удивления, если в подобных условиях находился и Райдер. Потому, какой труд он не напиши, — быть ему опубликованным.
«Чёрное сердце и Белое сердце» посвящены событиям, предваряющим британское вторжение в Зулуленд. Перед этим местные племена уже столкнулись с бурами, отчего реки наполнились кровью. Говорить сверх этого допустимо о чём угодно. Почему бы не о любви? Почему бы не создать любовный треугольник? Почему бы не дать право существовать добропорядочным и злокозненным персонажам? Хаггард так и поступил, правда быстро иссякнув. Только начавшись, произведение сразу закончится. Его номинальный объём вполовину меньше обыкновенного, отчего его проще назвать повестью, а то и вовсе рассказом.
Вообще, о зулусах Хаггард рассказывал и прежде. Сам цикл про Аллана Квотермейна породил необходимость развивать сторонние сюжетные линии, дав подобное представление об особенностях Зулуленда. Прекрасно известно жизнеописание Умслопогаса, на примере которого показано, сколь жестокой была цивилизация зулусов, в кровавой жажде заполнявшая ущелья, скидывая туда живых людей. Такой ли она осталась после? Или пассионарность зулусов угасла, сделав воинственный народ мягким и податливым для европейских завоевателей?
Установить то по повести «Чёрное сердце и Белое сердце» не получится. Райдер снизошёл до чрезмерной приторности. Неудивительно, отчего это его произведение растворилось, ныне никак не побуждая о нём вспоминать. Оно и опубликовано было совместно с «Элиссой», оттеняя собой мифическую историю, внося элемент хотя бы какой-то реалистичности. Зулусы, несмотря на их отдалённость в пространстве, всяко ближе финикийцев, давно сгинувших в ассимиляции с римлянами. Пусть и зулусы ныне не те. Впрочем, дабы так утверждать, надо иметь о них хотя бы поверхностное представление, чего делать лишь по книгам Хаггарда определённо не следует.
Единственное, к чему пробуждается интерес, — желание узнать, за кем всё-таки останется будущее юга африканского континента. Неужели за белыми людьми или чернокожее население возьмёт своё, не согласившись оказаться в услужении у пришельцев? Но того в самом начале XX века Хаггард не мог знать. Он лишь видел, как буры временно вернули себе контроль над занимаемыми ими территориями, но вот уже готовы опять уступить, поскольку противоречия с англичанами достигли очередного обострения, вследствие чего в 1899 году началась вторая англо-бурская война.
Думается, из-за интереса подданных британской короны Хаггард и возвращался к теме зулусов, уже тем гарантируя внимание к своим произведениям. Причём он настолько это понимал, что не проявлял старания, создавая в меру удобоваримый литературный труд, вполне годный для чтения английским детям перед сном, а то и для пробуждения патриотических чувств. Как бы оно там не обстояло, но в противостоянии между бурами и зулусами не могло быть симпатичных британцам персонажей — оба народа и без того набили оскомину, из-за чего англичане не раз успели пожалеть о понесённых ими потерях.
Важно и то, что англичане несли своим вмешательством разрешение конфликта. Нельзя допускать насилие буров над зулусами, нужно взять зулусов под опеку. С таким настроем, надо полагать, Хаггард и писал «Чёрное сердце и Белое сердце».
Автор: Константин Трунин