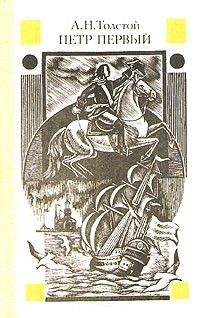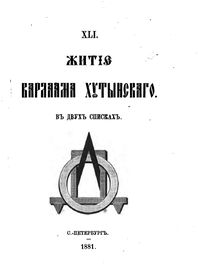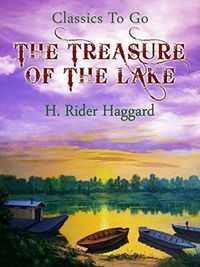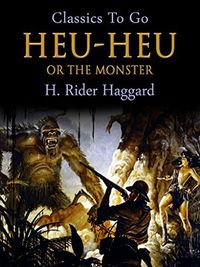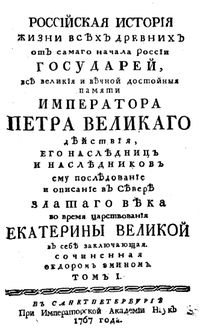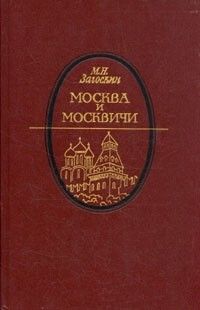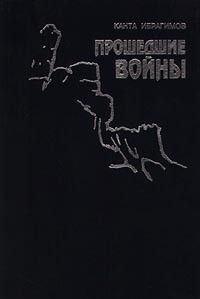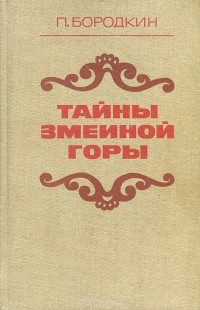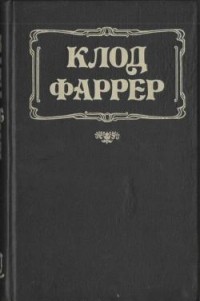В рамках сайта планируется ознакомиться с лауреатами Сталинской премии в области литературы и искусства. Перечень произведений прилагается:
1941
— Художественная проза
— Первая степень
— Алексей Толстой. За роман «Пётр I»
— Сергей Сергеев-Ценский. За роман «Севастопольская страда» (Книга 1, Книга 2, Книга 3)
— Михаил Шолохов. За роман «Тихий Дон» (Том 1, Том 2, Том 3, Том 4)
— Вторая степень
— Николай Вирта. За роман «Одиночество»
— Лео Киачели. За роман «Гвади Бигва»
— Алексей Новиков-Прибой. За 2-ю часть романа «Цусима»
— Поэзия
— Первая степень
— Николай Асеев. За поэму «Маяковский начинается»
— Янка Купала. За сборник стихов «От сердца»
— Павел Тычина. За сборник стихов «Чувство семьи единой» *
— Вторая степень
— Джамбул Джабаев. За общественные произведения *
— Василий Лебедев-Кумач. За стихотворные тексты общеизвестных песен *
— Георгий Леонидзе. За поэму «Сталин. Детство и отрочество»
— Сергей Михалков. За стихи для детей *
— Александр Твардовский. За поэму «Страна Муравия»
— Драматургия
— Первая степень
— Константин Тренёв. За пьесу «Любовь Яровая», поставленную в новой редакции
— Александр Корнейчук. За пьесы «Платон Кречет» и «Богдан Хмельницкий» *
— Николай Погодин. За пьесу «Человек с ружьём»
— Вторая степень
— Самед Вургун. За пьесу «Вагиф»
— Кондрат Крапива. За пьесу «Кто смеётся последним»
— Владимир Соловьёв. За пьесу «Фельдмаршал Кутузов» *
— Литературная критика
— Первая степень
— Игорь Грабарь. За книгу «Репин»
1942
— Художественная проза
— Первая степень
— Илья Эренбург. За роман «Падение Парижа»
— Василий Ян. За роман «Чингисхан»
— Вторая степень
— Анна Антоновская. За 1—2 части романа «Великий моурави» (Часть 1, Часть 2)
— Сергей Бородин. За роман «Дмитрий Донской»
— Поэзия
— Первая степень
— Николай Тихонов. За поэму «Киров с нами» и стихотворения «В лесах на полянах мшистых…», «Растёт, шумит тот вихрь народной славы…» и другие *
— Вторая степень
— Самуил Маршак. За стихотворные тексты к плакатам и карикатурам *
— Драматургия
— Первая степень
— Александр Корнейчук. За пьесу «В степях Украины» *
— Константин Симонов. За пьесу «Парень из нашего города»
— Вторая степень
— Самед Вургун. За пьесу «Фархад и Ширин» *
1943
— Художественная проза
— Первая степень
— Алексей Толстой. За трилогию «Хождение по мукам»: «Сёстры», «Восемнадцатый год», «Хмурое утро»
— Ванда Василевская. За повесть «Радуга»
— Вторая степень
— Павел Бажов. За книгу «Малахитовая шкатулка»
— Леонид Соболев. За сборник рассказов «Морская душа»
— Поэзия
— Первая степень
— Максим Рыльский. За сборники стихов: «Слово про рiдну матiр», «Свiтова зоря», «Свiтла зброя» и поэму «Мандрiвка в молодiсть»
— Михаил Исаковский. За тексты общеизвестных песен: «Шёл со службы пограничник…», «Провожание», «И кто его знает…», «Катюша» и другие
— Вторая степень
— Маргарита Алигер. За поэму «Зоя»
— Драматургия
— Первая степень
— Александр Корнейчук. За пьесу «Фронт»
— Леонид Леонов. За пьесу «Нашествие»
— Вторая степень
— Константин Симонов. За пьесу «Русские люди»
— За многолетние выдающиеся достижения в области искусства и литературы
— Первая степень
— Владимир Немирович-Данченко *
— Ксения Держинская *
— Вера Пашенная *
— Вера Мичурина-Самойлова *
— Викентий Вересаев *
— Александр Серафимович *
— Вторая степень
— Борис Асафьев *
— Иван Павлов *
1946 (январь)
— Художественная проза
— Первая степень
— Александр Степанов. За роман «Порт-Артур»
— Вячеслав Шишков. За роман «Емельян Пугачёв» (книга 1, книга 2, книга 3)
— Вторая степень
— Ванда Василевская. За повесть «Просто любовь»
— Борис Горбатов. За повесть «Непокорённые»
— Вениамин Каверин. За роман «Два капитана»
— Константин Симонов. За повесть «Дни и ночи»
— Поэзия
— Первая степень
— Аркадий Кулешов. За поэму «Знамя бригады»
— Алексей Сурков. За общеизвестные песни и стихи «Песня смелых», «За нашей спиною Москва», «Песня о солдатской матери», «Победа», «Песня защитников Москвы», «Бьётся в тесной печурке огонь…», «В смертельном ознобе»
— Александр Твардовский. За поэму «Василий Тёркин»
— Михаил Лозинский. За образцовый перевод «Божественной комедии» Данте Алигьери
— Вторая степень
— Павел Антокольский. За поэму «Сын»
— Гулям Гафур. За стихотворный сборник «Иду с Востока» *
— Леонид Первомайский. За сборники стихов «День рождения» и «Земля» *
— Александр Прокофьев. За поэму «Россия» и стихотворения «Не отдадим!», «Клятва», «Застольная», «За тебя, Ленинград!»
— Драматургия
— Первая степень
— Алексей Толстой. За драматическую повесть «Иван Грозный»
— Вторая степень
— Самуил Маршак. За пьесу-сказку «Двенадцать месяцев»
1946 (июнь)
— Художественная проза
— Первая степень
— Александр Фадеев. За роман «Молодая гвардия»
— Айбек. За роман «Навои»
— Вторая степень
— Валентин Катаев. За повесть «Сын полка»
— Андрей Упит. За роман «Земля зелёная»
— Поэзия
— Первая степень
— Аветик Исаакян. За стихотворения «Моей Родине», «Великому Сталину», «Бранный клич», «Сердце моё на вершинах гор», «Наша борьба», «Вечной памяти С. Г. Загияна»
— Якуб Колас. За стихотворения «Майские дни», «Дорогой славы», «Салар», «Родной путь», «Моему другу», «На запад», «Голос земли»
— Вторая степень
— Микола Бажан. За поэму «Даниил Галицкий», стихотворение «Клятва», цикл стихотворений «Сталинградская тетрадь»
— Вера Инбер. За поэму «Пулковский меридиан» (1943) и «Ленинградский дневник» («Почти три года»)
— Драматургия
— Первая степень
— Борис Лавренёв. За пьесу «За тех, кто в море!» *
— Вторая степень
— Владимир Соловьёв. За пьесу «Великий государь» *
1947
— Художественная проза
— Первая степень
— Эльмар Грин. За повесть «Ветер с юга»
— Вера Панова. За повесть «Спутники»
— Вторая степень
— Пётр Вершигора. За книгу «Люди с чистой совестью»
— Виктор Некрасов. За повесть «В окопах Сталинграда»
— Борис Полевой. За «Повесть о настоящем человеке»
— Поэзия
— Первая степень
— Саломея Нерис. За сборник стихов «Мой край»
— Симон Чиковани. За поэму «Песнь о Давиде Гурамишвили» и стихотворения «Гори», «Кто сказал», «Картлийские вечера», «Праздник победы»
— Вторая степень
— Петрусь Бровка. За поэмы «Хлеб» и «Думы про Москву», стихотворения «Брат и сестра», «Встреча», «Если бы мне быть…», «Народное спасибо»
— Андрей Малышко. За стихотворный сборник «Лирика» * и поэму «Прометей»
— Александр Твардовский. За поэму «Дом у дороги»
— Драматургия
— Первая степень
— Константин Симонов. За пьесу «Русский вопрос»
— Вторая степень
— Аугуст Якобсон. За пьесу «Жизнь в цитадели»
1948
— Художественная проза
— Первая степень
— Михаил Бубеннов. За 1-ю книгу романа «Белая берёза»
— Пётр Павленко. За роман «Счастье»
— Илья Эренбург. За роман «Буря»
— Вторая степень
— Олесь Гончар. За роман «Знаменосцы» (ч.1 «Альпы», ч.2 «Голубой Дунай»)
— Эммануил Казакевич. За повесть «Звезда»
— Берды Кербабаев. За роман «Решающий шаг»
— Валентин Костылев. За трилогию «Иван Грозный» («Москва в походе», «Море», «Невская твердыня»)
— Вера Панова. За роман «Кружилиха»
— Фёдор Панфёров. За роман «Борьба за мир»
— Третья степень
— Виктор Авдеев. За повесть «Гурты на дорогах»
— Борис Галин. За очерки «В Донбассе», «В одном городе»
— Тембот Керашев. За роман «Дорога к счастью»
— Вера Кетлинская. За роман «В осаде»
— Иван Козлов. За книгу «В крымском подполье»
— Иосиф Ликстанов. За повесть «Малышок»
— Николай Михайлов. За книгу «Над картой Родины»
— Поэзия
— Первая степень
— Николай Грибачёв. За поэму «Колхоз „Большевик“»
— Алексей Недогонов. За поэму «Флаг над сельсоветом»
— Владимир Сосюра. За сборник стихов «Чтобы сады шумели…» *
— Вторая степень
— Ян Судрабкалн. За сборник стихов «В братской семье» *
— Танк Максим. За сборник стихов «Кабы ведали» *
— Мирзо Турсун-Заде. За стихотворения «Индийская баллада», «Ганг», «Шли с туманного запада люди…», «Тара-чандри», «Висячий сад в Бомбее», «В человеческой памяти» *
— Драматургия
— Первая степень
— Борис Ромашов. За пьесу «Великая сила» *
— Аугуст Якобсон. За пьесу «Борьба без линии фронта»
— Вторая степень
— Николай Вирта. За пьесу «Хлеб наш насущный»
— Анатолий Софронов. За пьесу «В одном городе»
— Литературная критика и искусствоведение
— Первая степень
— Борис Асафьев. За книгу «Глинка»
— Вторая степень
— Борис Мейлах. За книгу «Ленин и проблемы русской литературы конца XIX и начала XX века»
— Милица Нечкина. За книгу «Грибоедов и декабристы»
1949
— Художественная проза
— Первая степень
— Василий Ажаев. За роман «Далеко от Москвы»
— Мухтар Ауэзов. За роман «Абай» (книга 1, книга 2)
— Константин Федин. За романы «Первые радости» и «Необыкновенное лето»
— Семён Бабаевский. За роман «Кавалер Золотой Звезды»
— Вторая степень
— Тихон Сёмушкин. За роман «Алитет уходит в горы»
— Вилис Лацис. За роман «Буря»(часть 1, часть 2, часть 3)
— Борис Полевой. За сборник рассказов «Мы — советские люди»
— Аркадий Первенцев. За роман «Честь смолоду»
— Владимир Попов. За роман «Сталь и шлак»
— Елизар Мальцев. За роман «От всего сердца»
— Олесь Гончар. За роман «Злата Прага» (3-я книга романа «Знаменосцы»)
— Третья степень
— Георгий Гулиа. За повесть «Весна в Сакене»
— Юрий Лаптев. За повесть «Заря»
— Виссарион Саянов. За роман «Небо и земля»
— Анна Саксе. За роман «В гору»
— Иван Рябокляч. За повесть «Золототысячник» *
— Тугельбай Сыдыкбеков. За роман «Люди наших дней» *
— Ганс Леберехт. За повесть «Свет в Коорди»
— Владимир Добровольский. За повесть «Трое в серых шинелях» *
— Юрий Яновский. За «Киевские рассказы» *
— Вадим Сафонов. За книгу «Земля в цвету»
— Фёдор Панфёров. За роман «В стране поверженных»
— Поэзия
— Первая степень
— Михаил Исаковский. За сборник «Стихи и песни» *
— Константин Симонов. За стихотворный сборник «Друзья и враги»
— Николай Тихонов. За стихотворный сборник «Грузинская весна»
— Вторая степень
— Степан Щипачёв. За сборник «Стихотворения» *
— Николай Грибачёв. За поэму «Весна в „Победе“» *
— Михаил Луконин. За поэму «Рабочий день» *
— Микола Бажан Микола. За сборник стихов «Английские впечатления»
— Аркадий Кулешов. За поэму «Новое русло» *
— Якуб Колас. За поэму «Хата рыбака»
— Мамед Рагим. За поэму «Над Ленинградом» *
— Самуил Маршак. За перевод сонетов В. Шекспира
— Драматургия
— Первая степень
— Анатолий Софронов. За пьесу «Московский характер»
— Николай Вирта. За пьесу «Заговор обречённых» («В одной стране»)
— Вторая степень
— Александр Корнейчук. За пьесу «Макар Дубрава»
— Анатолий Суров. За пьесу «Зелёная улица»
— Сандро Шаншиашвили. За пьесы «Арсен», «Герои Крцаниси», «Имеретинские ночи» *
— Валентина Любимова. За пьесу «Снежок» *
1950
— Художественная проза
— Первая степень
— Семён Бабаевский. За 1-ю часть романа «Свет над землёй»
— Вторая степень
— Фёдор Гладков. За «Повесть о детстве»
— Айни. За 1—2 части книги «Бухара» («Воспоминания»)
— Эммануил Казакевич. За роман «Весна на Одере»
— Натан Рыбак. За 1-ю книгу романа «Переяславская Рада»
— Константин Седых. За роман «Даурия»
— Александр Волошин. За роман «Земля Кузнецкая»
— Третья степень
— Мехти Гусейн. За роман «Апшерон»
— Василий Ильенков. За роман «Большая дорога»
— Александр Чаковский. За роман «У нас уже утро»
— Григорий Медынский. За роман «Марья» *
— Антонина Коптяева. За роман «Иван Иванович»
— Вера Панова. За повесть «Ясный берег»
— Иван Василенко. За повесть «Звёздочка»
— Ксения Львова. За повесть «На лесной полосе» *
— Алексей Мусатов. За повесть «Стожары»
— Поэзия
— Вторая степень
— Александр Яшин. За поэму «Алёна Фомина»
— Рустам Сулейман. За сборник стихов «Два берега» *
— Агния Барто. За сборник «Стихи детям» *
— Иосиф Гришашвили. За однотомник стихов *
— Третья степень
— Евгений Долматовский. За сборник стихов «Слово о завтрашнем дне»
— Пётр Комаров. За циклы стихов «Зелёный пояс», «Новый перегон», «Маньчжурская тетрадь» *
— Мирсаид Миршакар. За поэмы «Золотой кишлак» и «Непокорный Пяндж»
— Степан Олейник. За цикл сатирических стихов «Наши знакомые» *
— Максим Рыльский. За перевод на украинский язык поэмы А. Мицкевича «Пан Тадеуш»
— Драматургия
— Первая степень
— Всеволод Вишневский. За пьесу «Незабываемый 1919-й»
— Вторая степень
— Сергей Михалков. За пьесы «Я хочу домой» и «Илья Головин»
— Константин Симонов. За пьесу «Чужая тень»
— Борис Лавренёв. За пьесу «Голос Америки»
— Литературная критика и искусствоведение
— Вторая степень
— Владимир Ермилов. За книги «А. П. Чехов» и «Драматургия Чехова» *
— Сергей Макашин. За книгу «Салтыков-Щедрин» *
— Яков Эльсберг. За книгу «А. И. Герцен. Жизнь и творчество»
— Третья степень
— Гейдар Гусейнов. За книгу «Из истории общественной и философской мысли в Азербайджане XIX века» *
— Евгений Мозольков. За книгу «Янка Купала»
1951
— Художественная проза
— Первая степень
— Фёдор Гладков. За повесть «Вольница»
— Галина Николаева. За роман «Жатва»
— Вторая степень
— Семён Бабаевский. За 2-ю книгу романа «Свет над землёй»
— Гумер Баширов. За роман «Честь»
— Мирза Ибрагимов. За роман «Наступит день»
— Алексей Кожевников. За роман «Живая вода»
— Николай Никитин. За роман «Северная Аврора»
— Кави Наджми. За роман «Весенние ветры»
— Анатолий Рыбаков. За роман «Водители»
— Михаил Соколов. За роман «Искры»
— Александр Чейшвили. За роман «Лело» *
— Третья степень
— Сергей Антонов. За книгу рассказов «По дорогам идут машины»
— Николай Бирюков. За роман «Чайка»
— Александр Гудайтис-Гузявичюс. За роман «Правда кузнеца Игнотаса» *
— Виталий Закруткин. За роман «Плавучая станица»
— Анна Караваева. За трилогию «Родина» (романы «Огни», «Разбег», «Родной дом»)
— Лев Кассиль и Макс Поляновский. За повесть «Улица младшего сына»
— Берды Кербабаев. За повесть «Айсолтан из страны белого золота»
— Вадим Собко. За роман «Залог мира»
— Михаил Стельмах. За роман «Большая родня»
— Салчак Тока. За повесть «Слово арата»
— Юрий Трифонов. За повесть «Студенты»
— Мариэтта Шагинян. За книгу очерков «Путешествие по Советской Армении»
— Иван Шамякин. За роман «Глубокое течение»
— Поэзия
— Первая степень
— Андрей Малышко. За сборник стихов «За синим морем»
— Самуил Маршак. За сборник «Стихи для детей» *
— Степан Щипачёв. За поэму «Павлик Морозов»
— Вторая степень
— Григол Абашидзе. За циклы стихов «Ленин в Самгори», «На южной границе» *
— Алексей Сурков. За сборник стихов «Миру — мир!» *
— Теофилис Тильвитис. За поэму «На земле Литовской» *
— Гамзат Цадаса. За сборник стихов «Избранное» *
— Третья степень
— Ольга Берггольц. За поэму «Первороссийск»
— Петрусь Бровка. За сборник стихов «Дорога жизни» *
— Платон Воронько. За сборники стихов «Доброе утро», «Славен мир» *
— Миклай Казаков. За сборник стихов «Поэзия — любимая подруга»
— Семён Кирсанов. За поэму «Макар Мазай»
— Расул Рза. За поэму «Ленин» *
— Геворк Эмин. За сборник стихов «Новая дорога» *
— Драматургия
— Вторая степень
— Ило Мосашвили. За пьесу «Потопленные камни»
— Анатолий Суров. За пьесу «Рассвет над Москвой»
— Александр Штейн. За пьесу «Флаг адмирала»
— Третья степень
— Николай Дьяконов. За пьесу «Свадьба с приданым»
— Александр Корнейчук. За пьесу «Калиновая роща»
— Кондрат Крапива. За пьесу «Поют жаворонки»
— Юлий Чепурин. За пьесу «Совесть»
— Литературная критика и искусствоведение
— Вторая степень
— Дмитрий Благой. За книгу «Творческий путь Пушкина (1813-26)» *
— Третья степень
— Владимир Орлов. За книгу «Русские просветители 1790—1800 годов»
1952
— Художественная проза
— Первая степень
— Степан Злобин. За роман «Степан Разин»
— Вилис Лацис. За роман «К новому берегу»
— Вторая степень
— Ванда Василевская. За трилогию «Песнь над водами» («Пламя на болотах», «Звёзды в озере», «Реки горят»)
— Ярослав Галан. За памфлеты из сборника «Избранное»
— Дин Лин (Китай). За роман «Солнце над рекой Сангань»
— Николай Задорнов. За романы: «Амур-батюшка», «Далёкий край», «К океану»
— Орест Мальцев. За роман «Югославская трагедия»
— Андре Стиль (Франция). За роман «Первый удар»
— Третья степень
— Тамаш Ацел (Венгрия). За роман «Под сенью свободы»
— Владимир Беляев. За трилогию «Старая крепость»
— Янка Брыль. За повесть «В Заболотье светает»
— Дмитрий Ерёмин. За роман «Гроза над Римом»
— Георгий Марков. За роман «Строговы»
— Игорь Муратов. За «Буковинскую повесть»
— Шандор Надь (Венгрия). За рассказ «Примирение»
— Лев Никулин. За роман «России верные сыны»
— Николай Носов. За повесть «Витя Малеев в школе и дома»
— Валентина Осеева. За 1—2 книги повести «Васёк Трубачёв и его товарищи»
— Виктор Полторацкий. За книгу очерков «В дороге и дома» и очерки 1951 года
— Евгений Поповкин. За роман «Семья Рубанюк»
— Чжоу Ли-бо (Китай). За роман «Ураган»
— Поэзия
— Первая степень
— Николай Тихонов. За циклы стихов «Два потока» и «На Втором Всемирном конгрессе мира»
— Вторая степень
— Антанас Венцлова. За сборник стихов «Избранное»
— Сильва Капутикян. За сборник стихов «Мои родные»
— Георгий Леонидзе. За поэмы «Бершоула» и «Портохала»
— Третья степень
— Расул Гамзатов. За сборник стихов и поэм «Год моего рождения»
— Владимир Замятин. За поэму «Зелёный заслон»
— Микола Нагнибеда Микола. За сборник «Стихи»
— Юхан Смуул. За сборник «Стихотворения. Поэмы»
— Драматургия
— Вторая степень
— Хэ Цзин-чжи и Дин-Ни (Китай). За пьесу «Седая девушка»
— Третья степень
— Абдулла Каххар. За пьесу «На новой земле»
— Павел Маляревский. За пьесу «Канун грозы»
— Литературная критика и искусствоведение
— Третья степень
— Берта Брайнина. За книгу «Константин Федин»
— Николай Горчаков. За книгу «Режиссёрские уроки К. С. Станиславского» (2-е издание)
*Данные произведения не представляется возможным найти в электронном, либо бумажном виде; либо по некоторым позициям требуется проводить отдельное исследование
Это тоже может вас заинтересовать:
— Большая книга: Лауреаты
— Букеровская премия: Лауреаты
— Гонкуровская премия: Лауреаты
— Госпремия РФ: Лауреаты
— Национальный бестселлер: Лауреаты
— НОС: Лауреаты
— Русский Букер: Лауреаты
— Ясная поляна: Лауреаты