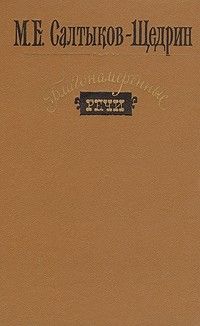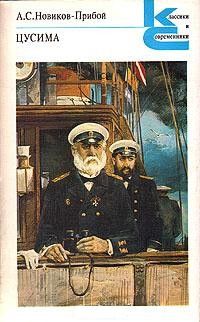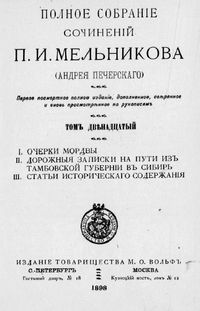Марафон «Критика на критику» №1
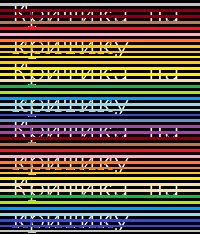
Примите участие в новом литературном марафоне, лучшему даётся награда в тысячу рублей. Требуется малое — создать любым образом критику на критику. Вы вольны сами решать, как стать участником марафона. Допускается какое угодно проявление творческого мышления. Главное помнить, критика должна касаться любого труда, к созданию которого приложил руку Константин Трунин. Преимущественно это его критические изыскания, выраженные публикацией книг о литературных работах Александра Куприна, Дениса Фонвизина, Джека Лондона, Джеральда Даррелла, Ивана Крылова, Михаила Булгакова, Эмиля Золя, Якова Княжнина. Среди прочих работ: «Деградация морали Запада», «Лауреаты российских литературных премий» и художественное произведение «Отрицательная субстанция». Одобряется критически посмотреть на Архивы и на любой материал, опубликованный на сайте trounin.ru.
Срок проведения первого марафона — от начала сентября до конца октября. Победитель будет выбран решением Константина Трунина. Оценки в тысячу рублей может удостоиться всякий, невзирая, создаёт он положительную или негативную критику, либо выразит взвешенное мнение. Будет допущен к участию и тот, кто прежде уже публиковал критику.
Где размещаться мнению? Где угодно. Это может быть сайт Константина Трунина, ваш сайт или сторонний. Может быть страница в сети, даже обыкновенная тетрадная страница или иная вам понравившаяся поверхность, лишь бы имелась возможность ознакомиться с вашим творением. Поэтому, создав мнение, уведомьте о нём Константина Трунина, предоставив ссылку, фотографию или непосредственный результат. Наиболее простой способ — сообщить в комментарии по адресу http://trounin.ru/kritikanakritiku1 — но помните и о том, что хештег #критиканакритику вполне допустим.
Где найти книги Константина Трунина? На http://trounin.ru/shop, либо сайтах интернет-библиотек. Книги Константина Трунина распространяются бесплатно, помните об этом (за исключением отдельных площадок, извлекающих прибыль в свою пользу за право размещения).
Распространение информации о марафоне «Критика на критику» приветствуется. Благодарность будет обязательно выражена при подведении итогов.
— Upd. Марафон закончен, признан несостоявшимся по причине отсутствия участников