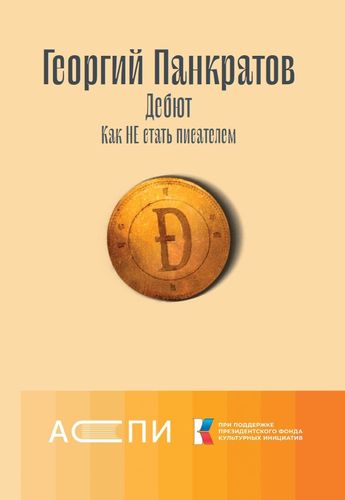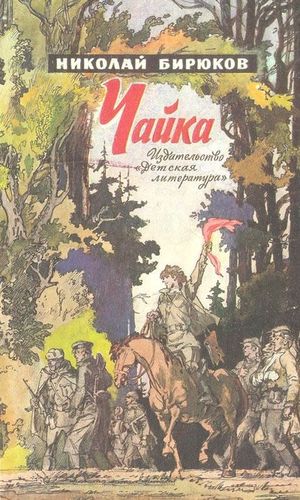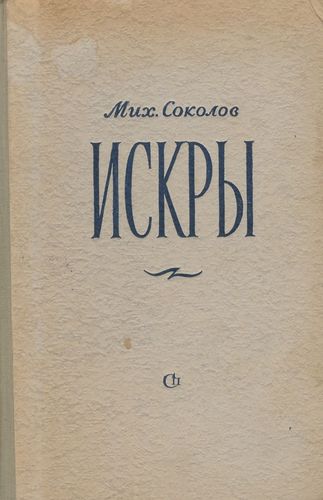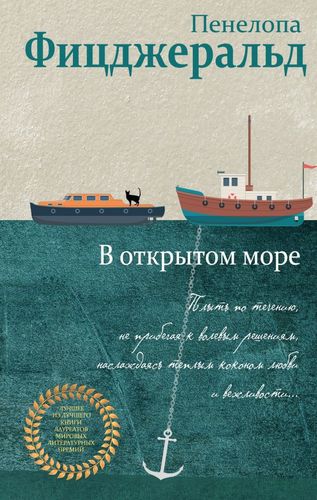Иван Тургенев «Степной король Лир» (1869-70)
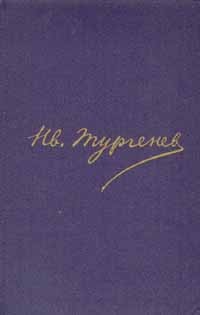
Довольно узнав про себя критических отзывов касательно малой прозы, Тургенев взялся написать повесть, частично основанную на реальностях российского быта. В результате удостоился гневных отзывов. Ивана обвинили в опошлении Шекспира. Так и говорили: зачем трогал великое творение, обратив его в навоз, из которого и принялся лепить? Обвинили и в принижении непосредственно имевшего в России место быть. А что сделал Тургенев? Он взял за основу события, описанные Шекспиром в «Короле Лире», в свою очередь основанные на британской мифологии. Жил некогда король, решивший разделить при жизни наследство между детьми, получив за то чёрную неблагодарность. Кто может сказать, будто таковой сюжет лишён жизненности и обязан быть привязан именно к фигуре мифического персонажа? Назови Иван произведение другим образом, удостоился бы обвинений в схожести сюжета. Но ничего чрезмерного в том нет. Всё же Тургенев пытался показать не сюжет, основанный на легендах, а думал отразить реалии некогда близких для его современников дней.
Дабы хоть как-то смягчить отношение читателя, Тургенев решил вывести род главного героя из чухонцев, под которыми понимались шведы. И всё в нём будто бы родное — русское, в отличии от импульсивности. За всякое действие главный герой брался скоро, выполнял его быстро, принимаясь за следующее. Мог легко оскорбить чиновника, прозвав обидным словом. Боялся ходить в церковь, опасаясь выдавить прихожан, поскольку обладал внушительными габаритами. И ел он так, словно за стол садилось несколько человек. Всё это создавало определённый образ. Не совсем понятно, к чему читатель обязывался знать именно это. Чтобы увидеть непосредственность главного героя? Принять его за честнейшего из людей, кто живёт по детской своей наивности?
Основное, важное к пониманию, судьба задуманного к разделу наследства. Увидев сон, согласно которого главный герой подумал о скорой смерти, решил делить наследство при жизни. Он никого не слушал, учитывая то обстоятельство, что всему в любом случае предстоит быть разделённым между детьми. Но раз повествование складывалось подобным образом, ещё и с упоминанием короля Лира, читатель понимал, к чему думал склонить сюжет Тургенев. Чёрная неблагодарность не заставит себя ждать. Останется только красочно расписать детали. Какой-нибудь читатель припомнит, как подобное происходит в действительности. Упомнит каждого известного ему человека, чьё наследство бездарно растрачивалось. И как даритель оставался у разбитого корыта. То есть, говоря на нынешний лад, в лице одариваемых встретил мошенников, поживившихся за его счёт.
Читатель волен привести огромное количество обратных примеров. Однако, в жизни случается всякое. А если браться за литературные сюжеты, там и вовсе не встретишь идиллии. Кто же станет читать, когда всё замечательно и прекрасно? Пиши об этом книги, вовсе не будешь читаем. Нужно побуждать читателя оспаривать высказываемое автором. Потому Тургенев встретил негативные отклики. Критикам следовало ответить, сколь велика Россия, в значительной части лишённая счастья, и тем более справедливого отношения к оного страждущим. Хотя бы сослаться на Александра Островского, популярного драматурга, в чьих пьесах действующие лица жили мыслями как раз о дармовом наследстве, которое они хотят получить, более никаким способом не умея заработать.
Можно ли сказать о поучительности «Степного короля Лира»? Ни в коем разе. Тургенев не предоставил для читателя возможность к иному осмыслению содержания, кроме как сообщив неизбежность случившегося. Разве только получится задуматься о жизни в пагубном её смысле для человека: все благие деяния обречены быть низведёнными в пустоту.
Автор: Константин Трунин