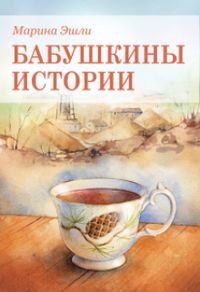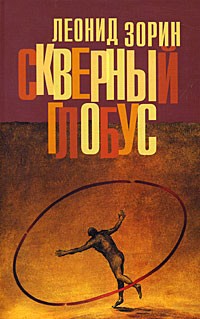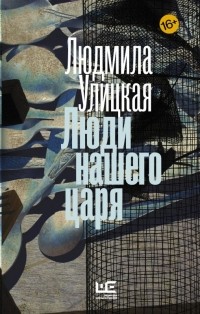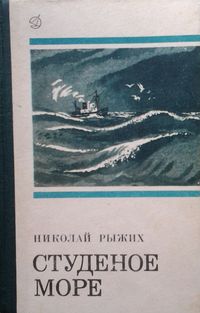Александр Куприн — Рассказы 1908-09

Подходя к идее продажности человеческой души, Куприн вознёс влечение до высших пределов в «Суламифи», сбросив на дно в «Яме». Некогда за любовь развязывали войны, теперь цена любви устанавливается в лучшем случае в одну копейку, ибо не стоит это чувство того, за что раньше стремились его приобрести. Задав настроение в «Штабс-капитане Рыбникове», Александр постепенно раскрывал для себя новое миропонимание. Кто с ним не соглашался, тот не привык смотреть на окружающий мир открытыми глазами, либо не хотел видеть отражение действительности на страницах художественных произведений.
«Суламифь» является исключением в череде произведений Куприна про упадок нравов. С 1908 года последовал ряд разоблачающих любовь произведений. Первым из которых стал рассказ «Морская болезнь», повествующий о даме, изнасилованной пьяным моряком во время плавания. Оправдывало даму плохое самочувствие и бессилие, сопровождающее её в путешествиях по воде. Александра интересовало другое — как подобное происшествие оценит её муж? Так в «Морской болезни» появляется набор мыслей опороченной женщины, желающей смягчить ситуацию, дабы не оказаться брошенной. Она не вступала в интимную близость добровольно, однако это будет иметь малое значение. Перед читателем ставится необходимость решить — насколько оправданы мысли женщины, считавшей обязательным смирение мужа.
Куприн опорочил любовь, не позволив героине рассказа сознаться мужу в произошедшем. Опять же, читатель начинает привыкать к манере Александра строить повествование на недоговорённостях. Ведь вполне может оказаться, что женщина придумала историю, желая таким образом получить требуемый ей разрыв отношений с мужем. Дама заранее знала, как критически к описываемому ею предположению её изнасилования он отнесётся. Она вела беседу в нужном ключе и добилась требуемого. Стоит предположить, будто вместо изнасилования произошла добровольная измена. Придти к окончательному мнению не получится, Куприн оставил описанную ситуацию без итоговых пояснений.
В том же году Александр совершил путешествие в Финляндию. Его интересовали нравы финнов, особенно их отношение к публичным домам. Оказалось, проституции в стране почти нет. В банях обязанности банщика могли выполнять женщины. Внешность финок не сказать, чтобы понравилась Куприну, но она была не хуже красоты русских. Если какие мысли появились у Александра, их реализацию он отложил до следующих лет. Очерк «Немножко Финляндии» — скорее занимательная информация, нежели повод к размышлению. Впрочем, Куприн подмечал как раз то, что его удивляло и более прочего беспокоило, иначе к чему такое пристальное внимание именно к роли женщины в финском обществе?
На прочую беллетристику Александр не распалял внимание. Он написал незначительное количество рассказов: «Ученик» (про старого шулера, сокрушающегося над переменами, погубившими романтизм его профессии), «Мой паспорт» (про ощущения владения оным, словно такого ранее у Куприна не было), «Свадьба» (новые воспоминания об армейском прошлом). В «Последнем слове» Александр подвёл итог желаниям убийцы, сожалевшего лишь о том, что сын им убитого скорее всего вырастет и станет похож на отца.
1909 год был ещё более скудным на творчество: очерк «В Крыму» и философский разговор от лица пса в рассказе «О пуделе». Остаётся выделить поучительную историю «Лавры».
Как известно, победителей награждают лавровым венком. Но что есть составляющий его лавр? За ним плохо ухаживают, его грубо срывают, с торжественностью вручают, а после берегут, льют на него слёзы об ушедшей славе, забывают, заставляют пылиться и в конце концов выливают вместе с помоями, предварительно отварив для ароматности бульона. Бесценный предмет в итоге окажется оценённым в одну копейку.
В России того времени всё обесценивалось: от любви до признания в обществе.
Автор: Константин Трунин