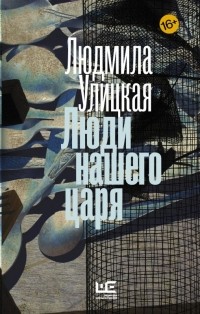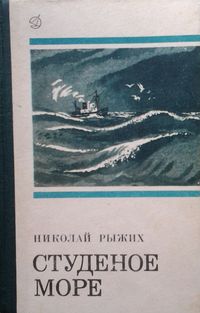Эмиль Золя «В полях» (1878), «Праздник в Коквилле» (1879)

Золя подметил особенность — раньше человека не интересовала природа. Никто не обращал внимания на зелень и течение реки, поскольку не видел в том существенной надобности. Однажды, с подачи Руссо, всё изменилось. Если прежде горожанин не имел представления о жизни за городскими стенами, то теперь его потянуло проводить свободное время вне давящих узостью улиц и спёртого запаха испарений от продуктов человеческой жизнедеятельности.
Почему, замечает Эмиль, Лафонтен писал о животных, но только тем и ограничивался? Разве мог знаменитый баснописец обойти вниманием столь уникальное явление, причём распространённое повсеместно и в гораздо больших количествах? Получается, Лафонтен не видел в том надобности. Попробуй теперь посмотреть на лес и водоёмы взглядом прежних эпох, как ощутишь скорее боязнь перед силами природы, либо вообще не придашь значения шелесту листьев и журчанию воды.
Может человек научился использовать силы природы на удовлетворение своих потребностей? Золя говорил не об этом. Не наступил ещё момент, когда люди задумаются о варварской вырубке леса и прочем, отчего будет стремительно изменяться ландшафт, заставляя человека отдаляться в менее испорченные его присутствием места.
Золя видит лишь стремление людей проводить время в полях, лесах и на водоёмах. Он в восторге, чем и спешит поделиться с читателем. Вдруг кому-то неведомо чувство прекрасного, продолжающего оставаться скрытым от внимания из-за сидения в четырёх стенах.
Впрочем, всякому человека требуется потребная ему одному радость. Ему может и не нравиться природа, когда ближе к сердцу нечто другое, вроде пристрастия к алкоголю. Тогда уже и не важно, как шумит ветер и капает дождь, покуда мысль касается удовлетворения низменных потребностей, обрекающих человека жить внутренне ярко и внешне серо.
Допустим, имеется деревня Коквилль, её населяет шантрапа, предпочитающая жить без лишних раздумий. Зарабатывают жители с помощью грабежа и других преступных способов получения денежных средств. Теперь представим, что рядом с этим поселение затонуло судно. И вот теперь ежедневно к берегу прибивает бочки с алкоголем, причём всегда с разным. Кто удержится от такого дара? Вот и причислил каждый житель деревни себя к гурманам, стремясь определиться с наиболее ему нравящимся напитком.
Не эксперимент ли это? Может некто проводит опыт над населением Коквилля? С чего бы такое счастье? Золя не думал далее явного. Подобная история могла произойти на самом деле. Осталось домыслить детали. Вроде предположения, что обилие разнообразного алкоголя губит вкус, что будет без разницы, что именно пить, так как нужно только пить, и только пить.
Напившись, человек перестаёт различать, где он находится. Он скорее окажется связан мёртвым сном, забыв об его окружающем. Какая тогда ему может быть разница, какими являются деревья и отчего их созерцание должно даровать радость. Хоть и нет существенной разницы между людьми, всё-таки имеется определяющее сходство — искать способ забыться. И тут как раз и возникают различия: одни отдыхают на природе, другие — тонут в вине, третьи — с упоением наполняют страницы текстом.
Любое мнение остаётся личным мнением его высказывающего. Золя не придерживался чёткой позиции, постоянно высказывая противоречивые суждения. Ему хотелось одного, но сам он поступал иначе. Пока это не так ясно, как окажется в будущем. Золя продолжал бедствовать, страдая от желания выражать явную позицию по беспокоящим его изменениям в общественной жизни.
Посему всем на природу, захватив съестных припасов. Прежде праздник, грусти предаваться предлагается после.
Автор: Константин Трунин