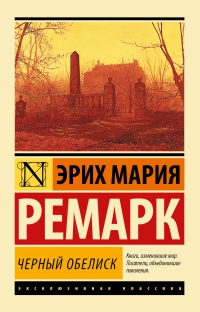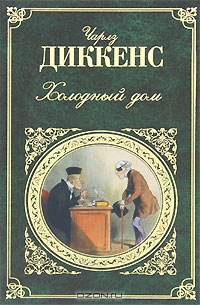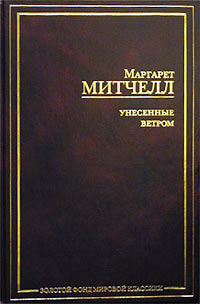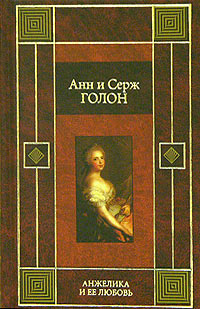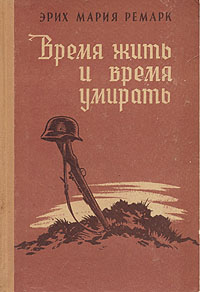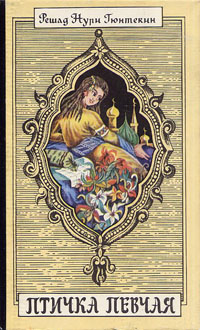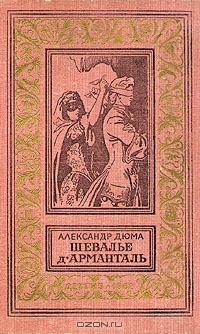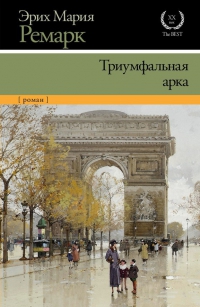Александр Островский «Гроза» (1859)
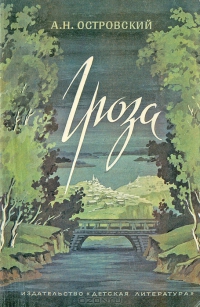
Находясь в замкнутом пространстве и не имея возможности найти выход из сложившейся модели поведения, ощущая диссонанс гармоничного восприятия мира, находясь в окружении отрицательно относящихся к тебе людей, являясь при этом молодым человеком, что всем чем-то обязан, а у самого нет ни капли самоуважения, лишь кровь кипит, да порывисто вырывается воздух во время стремительных выдохов от возмущения при выслушивании чужих нотаций. Прощаясь с мужем, устраивай концерт: падай ему в ноги, вой белугой несколько дней кряду, показывай соседям идеал верной жены. Всё это было так недавно, но и очень давно. В голове не укладывается стремление общества сохранять старые традиции, от которых постепенно происходит отдаление, заменяя их на новые, но всегда есть кто-то, желающий вернуть всё назад. И пока в конфликте поколений ломаются копья, а модель поведения в виду скромности главной героини стремится сохранять равновесие между желанием уйти в себя и желанием быть верной женой — не следует ожидать улучшения ситуации. Кем-то заведённые порядки обязательно имеют разные нюансы каждое поколение, лишь человек остаётся человеком.
Островский показывает читателю один из тех городов, быт которых так мил русским писателям, и где они черпают вдохновение. Не надо далеко ходить за сюжетами, достаточно заглянуть к соседям, наблюдая разворачивающееся на твоих глазах батальное полотно из попытки создать ладный вид на фоне военной конфронтации. Если присмотреться повнимательнее, да откинуть любезности, сразу замечаешь несоответствие в улыбках и напряжённом выражении лиц. В каждой семье своё собственное несчастье, из этого и следует исходить, когда перед тобой возникает фигура Катерины: слабовольной девушки с частыми попытками совершить суицид на фоне острых переживаний. Главная героиня ещё в детстве чуть не уплыла в лодке, благо её быстро нашли. Были и другие аналогичные моменты, о которых Островский не стал распространяться. Всё повествование «Грозы» наполнено переживаниями Катерины, видящей во всём тайные знаки, пребывающей в сомнениях и являющейся слишком мнительным человеком, что видит в смерти избавление от всех мук. Ничего нового в образе Катерины нет — таковы многие молодые девушки с формирующейся психикой, для которых важным моментом при общении является попытка запугать собеседников самым печальным исходом, если что-то пойдёт не по сценарию. Можно броситься в слёзы, либо порезать вены или наглотаться таблеток, показывая таким образом не уход в депрессию, а лишь играя на публику, часто имитируя обмороки. Видеть в поведении Катерины нечто особенное нет нужны — она была поставлена в такие условия, где бежать было некуда, пойти против общества затруднительно, а продолжать жить — бессмысленно: такой взгляд также присущ молодым людям, не воспринимающих жизнь во всей полноте в виду малого количества опыта и не имеющих важных сдерживающих факторов, ради которых следует продолжать существование. Проще бросить якорь в море, привязав себя к кромке цепи, уходя на глубь, нежели пытаться оставить после себя хоть что-нибудь.
Ситуация усугубляется строгой свекровью, действительно сворачивающей кровь, и мужем, испытывающим огромное желание убежать от матери к друзьям, где погулять в своё удовольствие, отдохнув душой и телом. Если сын не может терпеть мать, найдя для себя лучшим средством молчаливое поддакивание всем капризам, что говорить о его жене, живущей в доме на птичьих правах, выслушивая каждый день претензии. Катерина в такой семье ничем не лучше Золушки, ей остаётся ждать принца на белом коне или на корабле с алыми парусами. Мечта остаётся мечтой… и она не должна осуществляться. Лишь в сказке всё заканчивается хорошо, «Гроза» же является драматическим произведением, в должной мере хоть как-то отражающим жизнь. Островский выводит всё из под контроля, вводя в повествование молодого человека, что вторгается в чужую семью, не имея никаких иных желаний, кроме возможности воспылать любовью и хорошо провести несколько дней. Как бы не показывал Островский взаимную любовь и свойственные ей метания, но он не даёт никому никаких надежд, заполняя действие таким образом, чтобы каждый почувствовал себя виноватым.
Есть в «Грозе» ощущение новаторства, веющее эпохой перемен. Не в то время жила Катерина, не там искала счастье и не с теми людьми её свела судьба. Краткий отрезок жизни получился трагичным, а героиня вела себя именно так, как немного погодя станут вести себя женщины вообще, становясь независимыми от мужчин, умеющих извлечь пользу из любого дела. Женщины это умели всегда, но не во всех моментах они могли чувствовать себя свободно, наталкиваясь на сложившиеся традиции общества, трактующие твоё поведение однобоко, не допуская перегибов. Конечно, свекровь Катерины всплывает надо всем могучим титаном, чьё слово имеет решающее значение, но тут уже другая ситуация, более связанная с христианской нормой, обязывающей почитать мать. Читатель не зря следит за творческими муками участвующего в пьесе изобретателя, желающего собрать вечный двигатель, но не имеющего для этого средств, всё это и говорит за то, что в скором времени революция произойдёт и в этих местах — не только техническая, но мировоззренческая. Гроза происходит слишком рано, усугубляя внутренние переживания главной героини, не допуская изменений в сложившуюся заранее безвыходную ситуацию.
Читателю не стоит во всем доверять автору, который мог представить далеко не тот финал, что случился. Расследования никто не проводил, но падающее с большой высоты тело, да падающее на камни и имеющее крохотную, едва заметную, метку на голове — это уже само по себе подозрительно. Не пугает автор проломленным черепом, и не даёт совершить полный осмотр тела, и в одностороннем порядке предлагает самую очевидную версию произошедших событий. Если постараться развернуть всю историю с конца в начало, то не Катерина сделала решающий шаг и не гроза оказалась во всём виноватой, а кто-то решил разрешить дело наиболее быстрым способом, наслушавшись мыслей о самоубийстве героини, решив ей помочь сделать этот шаг. Может быть таким человеком стала сестра мужа Варвара… но что произошло на самом деле — тайна.
Хороший шанс создать детектив с расследованием. Мэтры отечественного детективного жанра, принимайте идею для реализации.
Автор: Константин Трунин