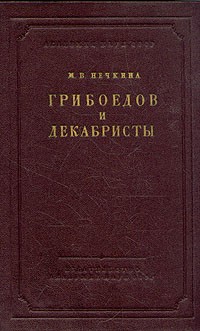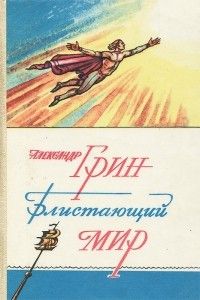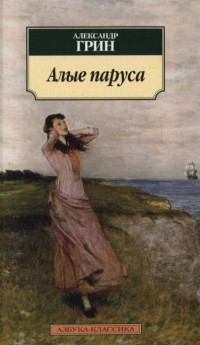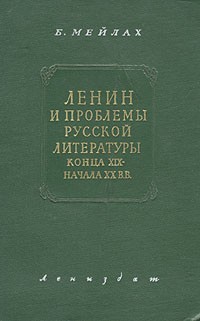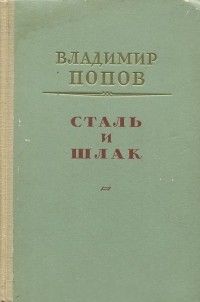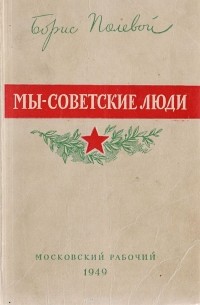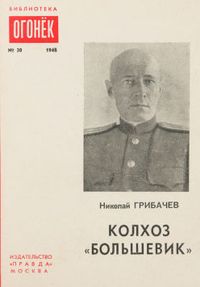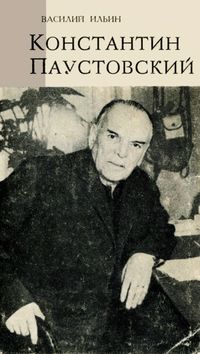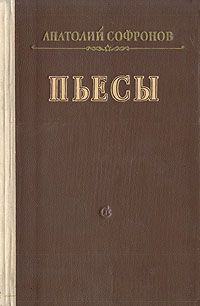Аркадий Первенцев «Честь смолоду» (1946-48)
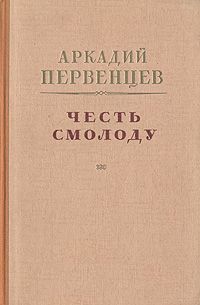
Надо ли детям рассказывать о войне? Необходимо! Это требуется в той же степени, как с юных лет показывать мир полным жестокости. А лучше ознакомить с принципом существования жизни на планете, когда каждый должен бороться и выживать, невзирая на трудности. Причём сразу внушить, что человек отличается от всего мира лишь одним — он является единственным живым существом, способным жить во имя справедливости. Вот как раз о справедливости людям с юных лет и нужно рассказывать в самую первую очередь, доказывая на примерах, почему это именно так. Причём, справедливость допускается реализовывать с помощью поступков, считаемых за недопустимые. Потому война является лучшим примером — на войне убивают. И если юным сердцам не привести столь явного доказательства, то понимание справедливости сформируется по обратному принципу, когда уже неприемлемое будет считаться за должное быть. Вот потому некогда дети знали о мире больше, нежели тем озаботились последующие поколения, погрязнув в грёзах, отныне воспринимая «справедливость» за обязанное быть предоставленным по первому требованию. А ведь когда-то умирали за право торжества справедливости…
Нет, Аркадий Первенцев не писал о справедливости. Он не мог и подумать, будто может быть иначе. Он рассказал, каким образом дети взрослели, познавая мир на собственных ошибках. И люди на его страницах были разными, прекрасно понимающими, за какие поступки будут уважаемы, а за какие — наказаны. Но нельзя заставить всех быть одинаковыми. В обществе всегда будут стремящиеся жить по совести, будут и подлецы. Впрочем, общество обществу рознь. В иных обществах «жить по совести» — понятие противоположной окраски, тогда как «быть подлецом» — почётно. И если не говорить на примерах, скрывать от подрастающего поколения, пожнёшь далеко не то, к чему хотел стремиться. Если в мире убивают — об этом нужно говорить, об этом необходимо сообщать в детских произведениях, чтобы юный читатель знал и понимал, вырабатывая определённое мнение, а не познавал после самостоятельно, уже вступив во взрослую жизнь.
Как это происходит у Первенцева? Ребята растут и мужают, они пребывают в среде беззаботности, но не позволяют себе лишнего. А если кому-то желается совершить подлость, он будет восприниматься за изгоя. Подобного нельзя избежать, всё равно в обществе будут существовать элементы, пытающиеся разрушить представление об общем счастье. Имея врага среди сверстников, ребята подрастут и столкнутся с пониманием ещё более ужасающего — существуют враги пострашнее. И если внутренний враг — свой, с кем нужно научиться сосуществовать, то враг внешний — угроза, должная быть уничтоженной. Потому становится за благо борьба, когда человеку позволяется убивать людей. Как бы то ужасно не звучало для юных сердец, но жизнь действительно жестока ко всем одинаково. А если в мире исчезает справедливость, она должна быть восстановлена. Кому же определять понимание «справедливости»? То ляжет на плечи самых сильных. Так определила природа — выживает сильнейший, он же определяет, чему и каким образом быть, в том числе и восприятию такого сложного явления, каковым является «справедливость».
Безусловно, Аркадий Первенцев имел полное право писать о жестокостях на войне для детей. Тогда каждая семья познала лишения, самые маленькие дети имели представления, с каким трудом удалось одолеть агрессию врага. Главное, суметь сохранить память о том опыте, чтобы никогда не забывать. В том числе нельзя забывать и о бесчеловечности человека, возникающей как раз от утраты понимания, какой должна быть она — человечность, неразрывно связанная с правильным пониманием справедливости.
Автор: Константин Трунин