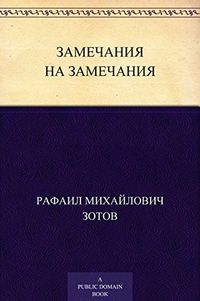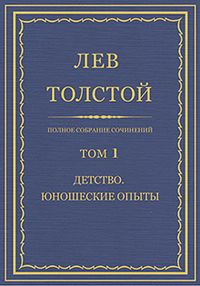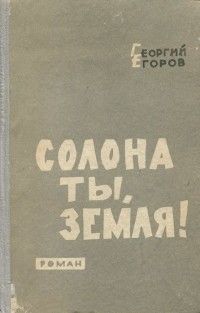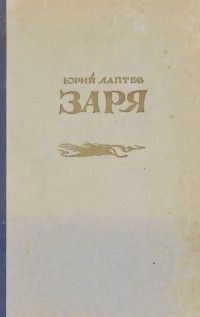Дмитрий Мережковский «Лица святых от Иисуса к нам: Франциск Ассизский» (1938)
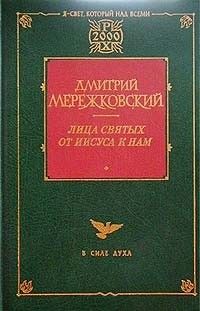
Про Франциска Ассизского Мережковский уже успел рассказать в прежние годы, сложив поэму про его жизнь. Теперь, пытаясь протянуть нить от Иисуса к современности, Дмитрий стремился найти способ выразить собственные мысли касательно нового осмысления религии. Пресловутый Третий Завет — нечто, должное стать книгой откровений, современным аналогом Ветхого и Нового Заветов. Получалось, Третий Завет вполне способен раскрыться через коммунистические воззрения. Как данную особенность вообще возможно с чём-то увязать? И причём тут Франциск Ассизский? Ведь должно всё казаться понятным. Кто самым первым сумел убедить в необходимости существования нищенствующей братии, соглашающейся жить по общим правилам, свято соблюдая заповеданное? Для западного христианства — это именно Франциск Ассизский. Пускай так, в данный момент не имеет значения, какие стремления имели христиане на той же Руси, допускавшие и более строгое к себе отношение, нежели жить в бедности и иметь стигматы.
Проблема Третьего Завета в том, что на его основе стремятся строить новое учение, будто бы основанное на лучшем из некогда существовавшем. Чаще это обретает вид суждений вокруг мистических материй. Если Ветхий Завет — мифология иудеев, то Новый Завет — житие Иисуса Христа, либо житие Бога среди людей: в зависимости от точки зрения на толкование. А вот Третий Завет — непонятное явление, может быть и нужное для единственной цели — не допустить второго сошествия Бога. Получается странное, отныне люди боятся сближаться с Высшим Существом на физическом уровне, помня о пророчестве про Страшный суд. И это при том обстоятельстве, что сам Мережковский в «Иисусе Неизвестном» пояснял для читателя, насколько Апокалипсис излишен для христианства, поскольку составлен человеком, возникшим словно из ниоткуда, никогда не знавшим Христа, но продолжающим почитаться по праву равного среди авторов, из чьих трудов составлен Новый Завет.
Если вдуматься, то легко провести линию, где Иисус обозначен за начало, минуя Павла, Августина и Франциска, достигая на заключительном отрезке непосредственно Мережковского. Теперь об этом можно говорить с твёрдой уверенностью. Всё, к чему стремились прежние мыслители, к тому же желал приблизиться Дмитрий. Но как это осуществить? Некогда Мережковский видел необходимость в переменах, он выступил в качестве пророка русской революции, всячески рассуждая о приближении неизбежного. Он вполне мог мыслить о благе в виде коммунизма, опираясь сугубо на деяния того же Франциска Ассизского, организовавшего нищенствующую общину, впоследствии преобразованную в орден. Вместе с тем, Дмитрий отдавал себе отчёт, приводя в качестве довода слова римских пап, считавших стремление монахов к чрезмерным бытовым ограничением за проявление раскольнических наклонностей. Редкая община не погрязала в ереси, тогда как орден, основанный Франциском избежал сей пагубы. Похожая история случилась с коммунизмом — в России он был извращён посредством большевизма, если в чём и воплощавшего коммунистические представления, то не на правах общего счастья, а в качестве обнищания каждого человека в государстве.
И вот теперь остаётся увидеть Мережковского, продолжавшего считать возможным осуществление преображения человечества, для чего обязательно следует прибегнуть к Третьему Завету. Одно тому мешало — невозможность людей договориться об общем представлении. Имей Дмитрий сообщников, готовых его всячески поддерживать, иметь с ним схожие мысли, помогать формироваться общему мнению, где не останется места сомнению. Всего этого Мережковский не имел, как и прочие, кто до него, как и после, разрабатывал идею Третьего Завета. Не должен некий человек брать на себя право судить за других, не спрашивая о том никого, кроме себя. Ведь Ветхий и Новый Заветы — продукты коллективного мышления.
Автор: Константин Трунин