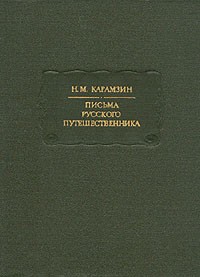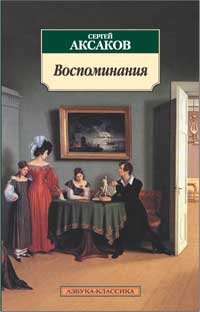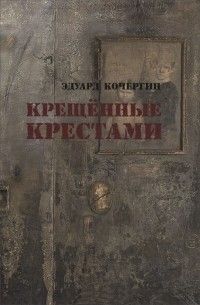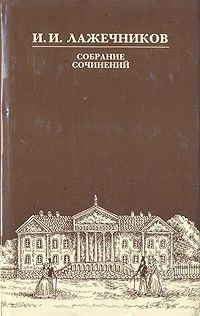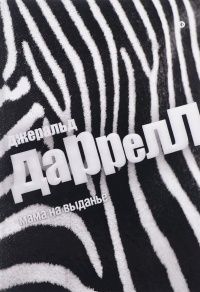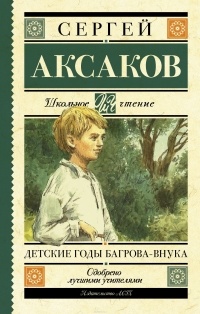Сергей Аксаков «Собирание бабочек» (1858)
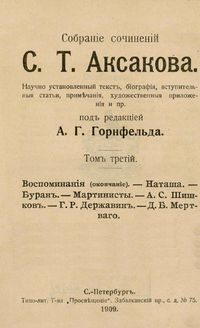
Аксаков не был страстным собирателем бабочек. Просто однажды, когда делать было нечего, а между учебным процессом случился перерыв, он с однокашниками поддался увлечению поиска и создания коллекций из пойманных ими бабочек. Дело то не настолько считалось им важным, что написанные про это воспоминания он не публиковал, оставив то на усмотрение наследников. Так всё и обстояло. Прежде Сергей не оговаривался, будто ловил бабочек, чему он всегда предпочитал ружейную охоту, ужение рыбы и собирание грибов. Но ежели из-под его пера вышла работа о некогда с ним случившемся, значит нельзя такому оказаться без внимания.
Особых знаний у Аксакова не было. Как правильно ловить? Главное, не повредить крылья. Как оформить на лист? Наиболее лучшим из доступных фантазии способом. Бабочка должна лечь красиво и радовать глаз. Научить сему увлечению никто не мог. Каждый из описываемых в воспоминаниях делал то согласно собственному разумению. Сергей даже не скрывает, что допускал множество ошибок. Он мог принять за редкий вид бабочку, в действительности широко распространённую. Потому он вскоре с радостью осознавал, насколько бесполезно печалиться, ежели сам сумеет добыть похожий экземпляр.
Друзья Аксакова не останавливались на бабочках. Они собирали абсолютно всех встречаемых ими насекомых. Тут стоит говорить сугубо о соревновательном духе, стремлении показать себя с лучшей стороны, всеми доступными способами превзойти товарищей. Сергей не поддерживал их устремления, не считая нужным нисходить до маниакального преследования всего, что на свою беду обладает способностью передвигаться по земле, воздуху, либо воде. Может о том он просто предпочёл не распространяться. Хватит воспоминаний об определённом, тем более учитывая специфичность увлечения.
Аксаков пытался полностью понять, как устроена бабочка, каким образом гусеница через куколку принимает форму взрослой особи. И опять он честно признаётся в неспособности понять закономерности. Готовый к получению определённой бабочки, он становился свидетелем рождения другой, а то ему представало некое насекомое, никак не похожее на бабочку. В природе достаточно интересного, должного быть познанным. Сергею вовремя сказали, каким образом паразиты проникают в куколки, отчего личинки пожирают её изнутри, после чего они и нарождались на свет, чем безумно огорчали Аксакова.
Одним словом, хватало особенностей, захватывающих внимание читателя, ежели он склонен к проявлению подобной же страсти по собиранию бабочек. Ему окажется полезным чужой опыт, где описываются самые частые ошибки. Вполне допустимо поверить, что Сергей мог совершенствоваться в увлечении, став умелым собирателем коллекций, может не только бабочек, но вообще всего живого. Да не стремился он к тому. Поэтому, стоило учебному процессу возобновиться, он отставил собранных бабочек в сторону, более никогда не думая их ловить. Думается, читателя Сергей не обманул. Ему должно было хватать других увлечений, к которым он привык с детства, к которым пронёс пристрастие через всю жизнь.
Так получилось, что о себе Аксаков стал писать достаточно поздно, будучи уже зрелым человеком, познавшим достаточно, чтобы не скрывать, к кому и как он относился. Пусть его критиковали, выдвигали обвинения и укоряли за недопустимость излишне откровенных суждений, Сергей частично согласился, всё же понимая — возразить ему практически некому. Он — свидетель былого, важного быть сохранённым. Каким бы жестоким оно не казалось — нет причин скрывать происходившее. Как знать, всё ли о себе самом Сергей рассказал правдиво. В откровенности ему не откажешь. Так или иначе, жизнь его подходила к концу.
Автор: Константин Трунин