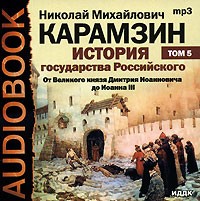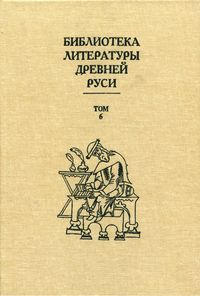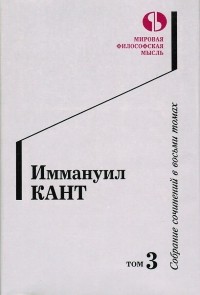Николай Карамзин «История государства Российского. Том VI» (1818)
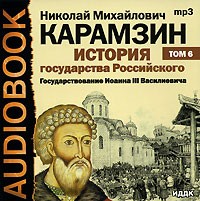
Иван III Великий с малых лет готовился занять место Великого князя, но волею судьбы был провозглашён Государем всея Руси. Его царствование длилось до 1505 года, он пережил двоих соправителей, передав права на власть своему сыну Василию III, отцу Ивана IV Грозного. При нём заново объединена Русь, чего не случалось со времён правления первых Рюриков, соседние государства трепетали перед могуществом Москвы, оказывавшей на них влияние и, благодаря здравому смыслу, позволявшей продолжать существование без уничтожения или поглощения.
Важным шагом в политике Ивана III стала женитьба на Софье Палеолог, дочери брата последнего императора Византии Константина XI. Являясь выходцем с осколка греческой империи — Мореи (средневековое название полуострова Пелопоннес, более известного в качестве части владений древних Спарты и Лаконии), Софья обязана была сохранить в своём нраве отголоски прошлого. Как это сказалось на её детях, Карамзин не сообщает, однако сей факт представляет определённый интерес.
Стремление к Европе обозначилось у Ивана III за счёт приглашения итальянских архитекторов и военного инженера Аристотеля Фиораванти. Много об этом говорить не имеет смысла, нужно только учесть склад характера царствовавшего государя, стремившегося находить примирение со всеми, если они ему более ничем не угрожали. Преображать страну допускалось по разному, поэтому одним из первых, кто считал необходимым привносить европейские ценности на Русь, безусловно был Иван III.
Внутренние проблемы решались таким же методом примирения. Без проявления насилия, играя словами и вынуждая совершать желаемое, Иван III сумел даже склонных на интриги новгородцев признать его власть над ними. Не было и особого военного противостояния, когда разрешился период превосходства Орды, вошедший в историю эпизодом, прозванным стоянием на Угре. Ливонский орден мог быть уничтожен, как и Казанское ханство, чего не случилось всё из-за той же политики примирения.
Карамзин о правлении Ивана III рассказывает широко и с подробностями, прежде всего вследствие важности понимания фигуры правителя, называемого современниками-европейцами Великим. Само это обстоятельство требовало пристального внимания. Во всём остальном, поскольку перед читателем не биография Ивана III, слог повествования неизменно продолжает оставаться у Николая сухим.
Какая информация имелась в распоряжении, той Карамзин и поделился. Он не стал создавать нечто большее, не примерял роли исторических лиц и не наполнял повествование красками. Затронутыми оказались важнейшие моменты, тогда как в остальном панорама тех дней осталась скрытой от внимания. Конечно, рассказывать о восстановлении влияния Руси приятно. Вместе с тем, трудно найти моменты, на которые следует опираться в повествовании. Ведь жизнь государства, насколько бы не была связана с правителем, зависит от разнообразия одновременно существующих факторов, влияющих друг на друга. У Карамзина всё исходит непосредственно от волеизъявления находящегося у власти человека.
В первых томах, где большей частью использовалась «Повесть временных лет», наблюдалось обязательное присутствие отвлечённых событий, почти никак не связанных с самой историей. Чем дальше приходилось погружаться, тем более неохватным оказывалось происходящее. Потребовалось сравнивать и соотносить, используя точную привязку между случившимся. Так «История государства Российского» отошла от понимания собственной истории через восприятие творящих её личностей к истории, где происходящее в стране зависит от внутренних дел иных государств и их правителей.
Это связано с обширностью доступных источников, позволяющих судить не так узко, как то допускалось раньше. Какой бы не делался теперь упор на личность царствующего правителя, от него зависит малое. Он сам — заложник истории. Посему остаётся показать, как ему удавалось справляться с трудностями. Согласно Карамзину, Иван III правил твёрдо и ни с чьим мнением не считался.
Автор: Константин Трунин