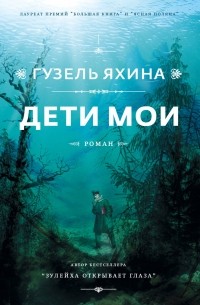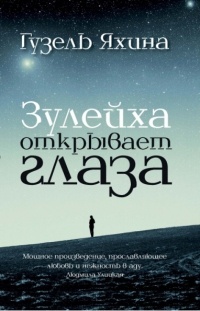Гумер Баширов «Честь» (1948)

Страна находится в состоянии войны, немцы рвутся к Сталинграду, накал сопротивления нарастает, а где-то в татарских землях расположился колхоз, находящийся недалеко от боевых действий, но продолжающий функционировать на благо государства. Не идёт речи об эвакуации хозяйства, как то происходило в Белоруссии. Никто даже не помышляет, будто придётся столкнуться с немцем на этой земле. Даже подними хозяйство выше достойного уровня, никто не станет рассматривать вариант с возможностью потерпеть поражение. Такого рода произведение не так сложно помыслить, когда война уже закончена. Гумер Баширов брался повествовать позже. А если так, нет смысла проявлять волнение по поводу судьбы татарского колхоза. Более того, надо рассказать советскому читателю, каким образом данный колхоз стал на голову выше прочих, добившись получения переходящего Красного знамени, более не собираясь его кому-либо уступать.
Но Баширов не может рассказывать об особенностях колхозной жизни. Чего-то ему не хватает. Да и не каждый способен описывать действительность на уровне Галины Николаевой, чуть позже Гумера образцово наполнившей содержанием роман «Жатва». Баширов всё-таки показывал колхоз военного времени. Именно тот период, когда обходиться приходилось малыми силами. Не хватало практически ничего. Может потому читатель с интересом внимал жизни вообще. Например, его вниманию представлен сперва юный музыкант, чьи успехи заставляли гордиться, в числе прочих он отправится на войну, будет искалечен, и будущее его станет сомнительным. Баширов не позволит свершиться несправедливости, учитывая имевшиеся возможности у советских граждан.
Гумер правильно поставил точки над всяким, кто возвращался с войны. Получив ранения, они не могли вернуться к полноценной жизни. Что с ними делать? Для колхоза такие работники — обуза. Не в силу имеющейся у них неспособности, скорее по сломленному духу, отчего они испытывали уныние. Баширов нашёл применение для каждого. Можешь читать газеты? Тогда выходи в поле, знакомь работников со свежей информацией, пока они выполняют трудовые обязанности. Уже тем принесёшь пользу для общества. Главное, суметь принять себя способным давать людям всё, к чему они сами в тот момент не могут проявить внимания. Всякий труд в действительности полезен — словно ещё раз повторяет Гумер Баширов.
Людям могло казаться, кого не отправили на фронт, они продолжают оставаться бесполезными. Будут просить, и им бесконечное количество раз откажут. Особенно это касалось девушек. Не совсем понятно, почему Баширов вводил таких персонажей. Вероятно, труд в тылу не воспринимался за способный помочь одолеть противника. Читатель видит таких персонажей, проявляя сочувствие к их воле. Когда-нибудь желающие будут отправлены на войну, но не раньше, чем принесут пользу непосредственно колхозу. А пока битва под Сталинградом становилась всё жарче. Помочь в столь критичный момент считалось крайне необходимым. Потому и желали отправиться на войну. Хорошо, умные люди знали, насколько важно одолеть противника, но и оставить страну без продовольствия вовсе нельзя.
Ещё важный момент — сплочённость государства. Нет ни слова об интересах кого-то. Наоборот, Советский Союз населяет единый народ, живущий общим интересом. И добивается этот народ лучшего из возможного. Будь оно подлинно и действительно так, не случиться росту противоречий. Или вторжение противника заставило сплотиться для борьбы? На страницах «Чести» всё настолько хорошо, что именно такого должен желать читатель. А ежели кому-то мнится иное, быть тогда большой беде. Но у Баширова мир обязательно должен казаться прекрасным. Переходящее Красное знамя татарский колхоз действительно получит.
Автор: Константин Трунин