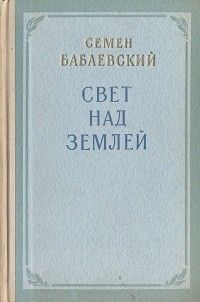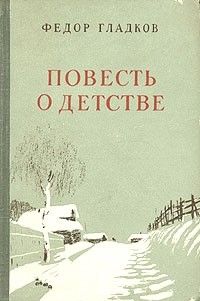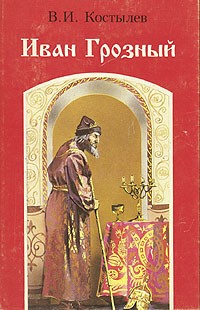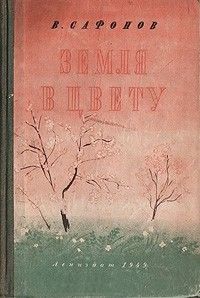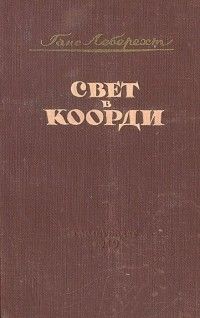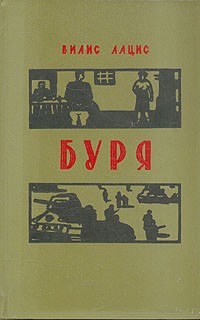Михаил Гордин «Жизнь Ивана Крылова, или Опасный лентяй» (1985)
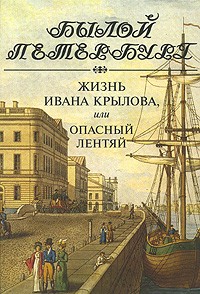
А не рассказать ли про Крылова в художественной форме? Почему бы не дать право знаменитому баснописцу прожить жизнь на страницах литературного произведения? Да как сделать то удобоваримым и не скучным? Михаил Гордин сделал попытку, наполнив содержание моментами, о которых читатель прежде нигде не встречал упоминаний. Правда то или вымысел? Таких вопросов при чтении художественной литературы не задают. Непременно понимание описываемого должно восприниматься за авторскую фантазию, пусть и имеющую в основе следование определённым моментам, без упоминания которых нельзя создать произведение о человеке, некогда жившем. Про Крылова действительно можно рассказывать с увлечением, вспоминая, какой он проделал путь, поскольку басни далеко не сразу стали его отличительной чертой.
Само детство Крылова — становление в атмосфере народного негодования. Неспроста был порождён бунт, возглавленный Пугачёвым. От восстания казаков погиб отец Ивана. Отчего не остановиться на этом моменте подробнее? Иные исследователи творчества Крылова так и поступали, но Михаил Гордин оказывался скупым на слова, не желающий растекаться мыслью по древу, излишне фантазировать и выходить за рамки допустимости предполагаемого. Какой бы художественной биография не была, всё-таки нужно опираться на общеизвестные факты. А так как про детские годы Крылова сохранилось незначительное количество свидетельств, Михаил предпочёл обходиться малым. Впрочем, таким образом он поступал в начале повествования, впоследствии всё-таки допуская домысливание.
Нельзя обойти вниманием Якова Княжнина, из-за которого Крылову пришлось иметь трудности с продвижением литературного таланта. Но кем был Княжнин? Гордин предпочёл показать этого поэта опальным подданным, должным принять казнь за растрату казённых денег. Безусловно, такой момент был в жизни Княжнина, как и его обвинение по адресу Ивана, которого он подозревал в излишне наглом вмешательстве в личную жизнь. Ведь известно, Крылов написал пьесу, в действующих лицах которой Яков узнал себя и свою семью.
О чём ещё рассказать? Про страсть Крылова к карточной игре, про его силу, про любовные стихи, подписанные первой буквой фамилии. Можно сообщить и про Карамзина, как тот путешествовал по Европе. Карамзин хорошо пришёлся к слову, поскольку «Московский журнал», им издаваемый, имел тогда единственного конкурента за читательское внимание — «Почту духов» Крылова. Насколько это так? Может и не так вовсе. Да и всему могло быть придано преувеличивающее значение, учитывая тиражи периодических изданий конца XVIII и начала XIX века. Или того вовсе не было, а то и Гордин приводил данное обстоятельство в качестве любопытного момента.
Так почему Крылов оказался в опале при Екатерине Великой? Не по причине издания журнала «Почта духов», и не по творческим изысканиям, в которых он говорил практически прямо, не прибегая к хитрости, вроде басенного изложения. Михаил Гордин посчитал, что Иван стался неугоден из-за предвзятого отношения к нему Зубова — фаворита императрицы.
Что до басен, то это поздний Крылов, познавший горькую суть правды, должной подаваться читателю в забавной форме. Как и прочие исследователи, Михаил Гордин приводил в пример некоторые басни, объясняя их суть в качестве шаржа — юмористического отображения действительности. Причём у Крылова это выходило таким образом, что не всякий оказывался способным догадаться, о чём именно шла речь в басне. А если кому то и становилось очевидным, напрямую укорить в том Крылова не мог, учитывая специфику басенного сюжета.
Пусть текст Михаила Гордина и не покажется читателю уникальным, зато позволит посмотреть на жизнь Ивана Крылова с немного другой стороны.
Автор: Константин Трунин