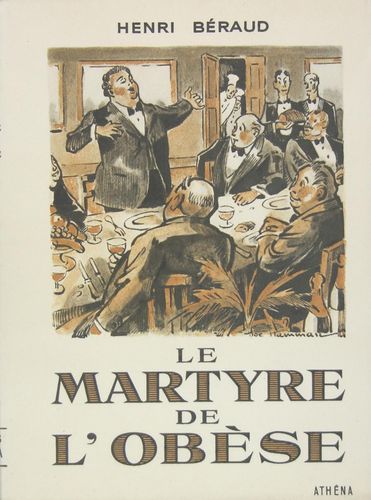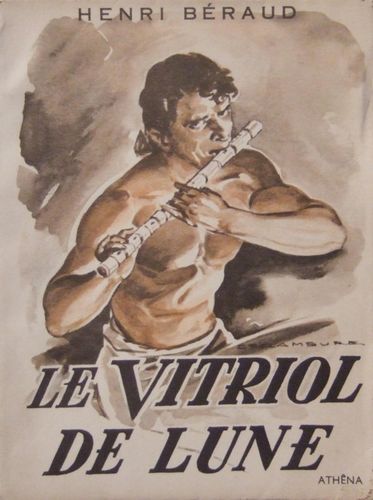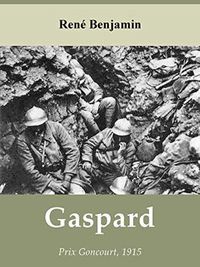Тьерри Сандр «Жимолость, чистилище, глава XIII» (1924)
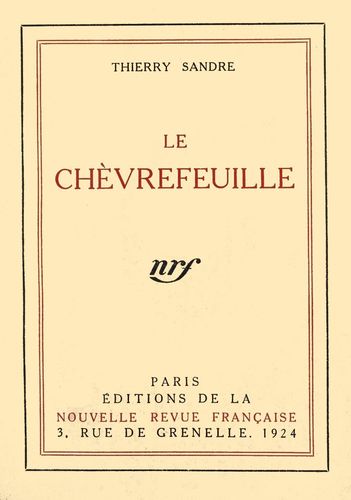
Проблема Гонкуровской премии, как и любой другой литературной премии, обязательно наступающее забвение. Не остаётся ничего, кроме имени лауреата. Мало кто о нём вспомнит, если даже попытается прикоснуться к его творчеству. Почему? Его не считают нужным сохранять. Довольно странная логика! Разве только выбор лауреата имеет значение в определённый год, тогда как после о нём можно вовсе не вспоминать. И это сохраняется даже в век цифровых технологий. Попробуйте отыскать книги абсолютно всех гонкуровских лауреатов — не получится! Чуть лучше обстоит дело, если прошло достаточное количество лет для окончания действия авторских прав. Тогда смелые люди выкладывают книги в свободный доступ. Но становятся ли они после этого кому-нибудь интересными? Такая же печальная участь касается трилогии Тьерри Сандра, получившая премию в 1924 году. Каким бы не казалось странным её название — это вынесенные под одно три разных произведения: «Жимолость», «Чистилище» и «Глава XIII».
Получится ли найти сразу все части трилогии? Попробовать определённо стоит. Тьерри Сандр поднимал довольно интересные темы, вполне может быть даже в том или ином виде происходившие. Так в «Жимолости» он рассказывал о происходившем в Париже немного после Первой Мировой войны. В «Чистилище» — о пленении немцами. А «Глава XIII» — это перевод тринадцатой книги из цикла «Пир мудрецов» за авторством древнегреческого писателя Афинея Навкратийского. Но раз именно такое сочетание было выбрано за достойное награждения Гонкуровской премией, остаётся с ним согласиться.
К чему тогда лучше обратить читательский взор? К истории, касающейся послевоенных лет. Книга на данную тему обязательно должна была стать в числе награждённых. Это понятно по логике событий, когда во время войны награждались книги о самой войне, то после в течение некоторого времени о происходивших событиях старались не вспоминать. Не исключено, французские авторы писали на тему послевоенных лет. Может стиль их изложения не считался за достойный премирования, либо их авторы уже успели стать лауреатами, автоматически вычеркнутые из числа кандидатов.
Сандр повёл повествование от лица рассказчика. Он решил посетить могилу неизвестного солдата в 1923 году. После пошёл по авеню, рассматривая парижские достопримечательности. Пока шёл, о многом передумал. То есть автор писал в духе потока сознания. И вот перед рассказчиком человек, едва ли не точная копия его сослуживца, убитого под Верденом. Это глубоко его поразило. Разве такое может быть? Ему не хотелось вспоминать о тех днях. Что станет удивительным — встреченный человек окажется именно сослуживцем, продолжающим здравствовать. Как же такое могло произойти? Сослуживец всего лишь захотел в жизни очередных перемен, для чего подменил жетон с именем на теле действительно убитого. Теперь же, устав жить под чужим именем, он придумал историю, будто прогуливался по кладбищу, увидел собственное надгробие, пожаловался в соответствующие службы и был полностью восстановлен в правах. Может рассказчик и не стал бы делиться такой историей, однако в текущем 1924 году он получил письмо из Америки, где сослуживец сообщал, что если данное письмо было отправлено, значит он умер. Вполне очевидно, читатель от такого рода истории придёт к неутешительным выводам.
О прочих частях трилогии можно не говорить. У кого имеется желание, пусть попробуют их найти. Если получится, можно считать за совершение угодного деяния. Будет прочитана часть про немецкий плен. Только нужно ли внимать переводу с древнегреческого? Или будем считать, Афиней Навкратийский стал первым греком, чья книга удостоилась Гонкуровской премии?
Автор: Константин Трунин