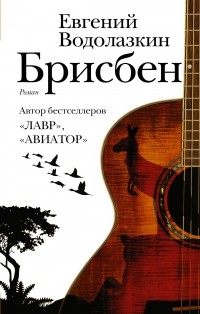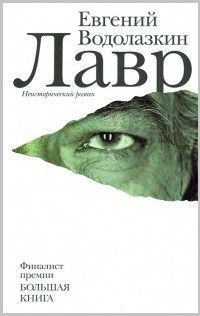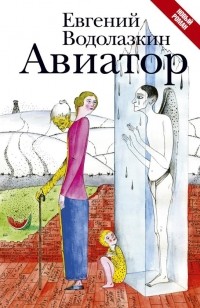Евгений Водолазкин «Чагин» (2022)

В литературе очень часто сталкиваешься с невозможностью продолжить начатое. В голове возникает сюжет, он имеет некоторые формы, но при попытке реализации упираешься в глухую стену извечной писательской проблемы — о чём именно дальше рассказывать. У Водолазкина данное затруднение встречается постоянно. Идею Евгений придумывает замечательную. Быть может лучше писать повести? Или ограничиться формой рассказа? Ведь там можно оборвать повествование в любой момент на полуслове, предоставив читателю возможность самому размышлять, каким действие могло быть дальше. И пусть получишь укор за недописанное произведение — сошлёшься на авторскую задумку. Но к крупному произведению такого отношения быть не должно. Раз взялся повествовать о человеке с гениальной памятью, будь добр наполнить страницы соответствующим содержанием, а не тем унынием, которое читатель оказался вынужден лицезреть.
Какие перспективы могут быть у человека, чья память не имеет границ? Как минимум, удивлять публику способностью к запоминанию. Как максимум, найти применение в узких специальностях. Ну или податься в агенты различных структур. Отчасти всё это есть в произведении. Присутствует демонстрация запоминания, показанная Водолазкиным на примере фотографической памяти. Профессию главный герой выбрал соответственно умению. И агентом он побудет. Правда, быть ему агентом безопасности библиотеки… Как бы вам сказать помягче? Довольно бредовая идея. Отправить за границу искать некий Синайский кодекс… Вроде бы здраво. Но в лице Чагина — сомнительно.
Можно сказать иначе. Сам Водолазкин, в силу профессиональных пристрастий, любит заниматься литературоведением. Он получает доступ к древним рукописям, переводит их на современный язык, всячески это фиксирует в памяти, продолжая работать над всё новым материалом, формируя внутри себя базу знаний. Он должен обладать хорошей памятью. Един ли Евгений с рассказчиком? Понять трудно, учитывая жалобу рассказчика на невозможность удерживать в памяти даже одно трёхзначное число. Да и читатель понимает, хорошая память требует усидчивости. Значит, остаётся единственное допущение.
Водолазкин написал ещё одно произведение, используя элементы магического реализма. Гениальная память главного героя — есть то самое единственное допущение. Иметь такую память невозможно. Как он этим воспользуется? Сугубо его дело. Он не обязан быть никем, кроме как кем пожелает. Знания может растратить на бесполезное времяпровождение. Чагин никому и ничем не обязан. Да и по природе своей с рождения чрезмерно глуп. Он легко верит любым нелепицам. Так ведь и должно быть! Имея в чём-то преимущество, в другом обязательно уступишь. Получилось так, что умея запоминать, Чагин не мог адекватно воспринимать действительность. К чему тогда ему получение информации, раз не способен её осмыслить? Запомнит он арабское начертание текста, сумеет воспроизвести. И?
А ведь как читатель хотел поверить написанному. Сложилось впечатление, будто автор знал человека, про которого взялся рассказывать. Этот Чагин был действительно кем-то известным. Прожил он именно ту жизнь, о которой поведал Водолазкин. Так думалось. Или так хотелось думать. На деле же, Чагин — придуманный Евгением персонаж. Может потому повествование не сложилось в восприятии. Читатель ожидал ознакомиться с совсем другой историей, более захватывающей дух. Вместо чего вынужден был наблюдать за передвижениями муравья, который, как известно, перемещается в пространстве с помощью как раз той самой фотографической памяти. Ему давали те картинки для миропонимания, которым он безоговорочно верил. Либо Водолазкин к тому и вёл повествование, между строк посоветовав читателю беречь присущие ему таланты.
И теперь читатель думает, он обладает гениальной памятью. Только она не в голове, а в наших девайсах. Попробуй вот только вспомнить, где там что находится.
Автор: Константин Трунин