Яков Княжнин «Судья и вор», «Добрый совет» (1787)
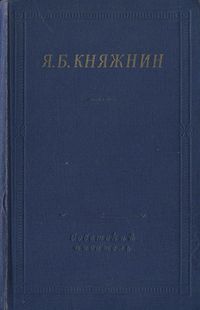
У точки нет представлений об ином, она конец всему определяет. Но если точку продолжать, она лишь в виде запятой предстанет. А если несколько точек поставить в ряд, о возникающей неопределённости подумает всяк. Как будет, куда творец человека поведёт, никто и никогда установить не сможет: не поймёт. Представим человека точкой, из которой исходит всё. Он — знак препинания, но и цифра с буквой ещё. Материал податливый, если иначе его представлять, хотя не начиная можно сразу точкой любое начало кончать. Будущее не определишь, думая об одном, но точкой заканчивая, точкой же и начнём.
«Судья и вор» — как представление, куда заводит человека жизни течение. Некогда на равных, люди разными пошли путями, теперь они удивляются сложившимся обстоятельствам сами. Мог судьёю стать вор, вор — судьёю, если согласятся с дарованной им судьбою. Но назад не вернуться, ныне всё именно так. Удивляться не надо — иначе не могло случиться никак. Творец решил, точке вид определённый придав, кому из людей нарушить измысленный кем-то устав, и кому тот устав создавать: очень трудно с этим согласиться и без возражений принять. Потому, дабы избежать недоразумений, хорошо подумайте сейчас, кого судите вы сегодня, тот осудит завтра и вас. Всякое случается, потому в настоящий момент лучше точку поставьте. Творец творцом, но и человек сам творит будущее — это представьте.
Из разных начал в единый конец, земные создания — заложники небес. Рождены, чтобы жить, потом умерев, неважно, осёл или царствовавший лев. «Добрый совет» надо дать, избегая проблем, не для радости жизнь положена всем. Приходит человек в мир, заботу проявляя о себе одном, устраняя преграды, возводимые против него мечом и огнём. И когда определит вотчину, станет спокойно жить, детей он должен много плодить. Родятся дети — вотчину отстаивать уже им, заботиться о благе доставшегося без чужой помощи: самим. Бывает и так, что нет знаний о ремесле отцов, неизвестно как оберегать отчий кров. Есть желание мирно вопросы решать, всем во всём всегда угождать, слушать басни, их смыслом проникаясь, созидать справедливость на их примере собираясь. Но не получится так, ибо никогда не получалось, иною бы жизнь человека давно сталась.
Отцы жили во славу, потомкам на благо поступая. Так желается думать, действительность не зная. Почему родитель, к примеру, успешно торговал вином? Он качеством брал или превосходил конкурентов в чём-то ином? А может доливал воды больше других? Такой рецепт извлечения прибыли из самых простых. Как теперь сказать, что отец доливал воду в вино? Совесть не позволит, да и такого быть не могло! Не позволит человек родителя укорять, светлую память о предке нельзя с грязью мешать. На деле, как бы то печальным не казалось, добавлял тот воду, причём не самую малость.
И теперь, когда дела хуже пошли, посмотри на продаваемое вино: сообрази. Понимаешь причину возникших проблем? Честность губит — должно ясно стать всем. Какими бы басни правдивыми не казались, их авторы иное показать старались. Понятно, человек ест человека с давних пор, заслуживая за то постоянно укор. Но не перестаёт человека человек есть, ежели желает бремя такого благополучия дальше несть. Думается, совет Княжнина усвоен, будет применим, коли никто не желает быть жизнью гнобим. Это противоречит морали, принимается за несправедливость, но не будем пестовать правду, скрывающую лживость. Впору о трости вспомнить, что гнулась под ветра порывами, живя сносно, довольствуясь представлениями о счастье мнимыми.
Автор: Константин Трунин
