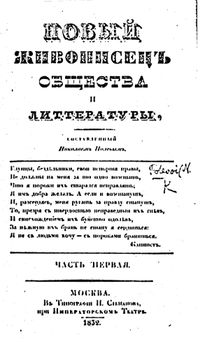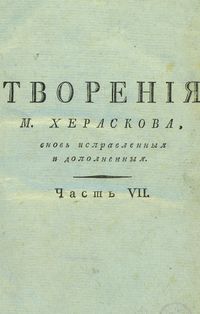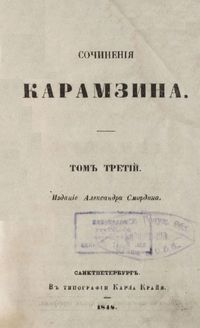Николай Лесков «На ножах. Части I-III» (1870-71)
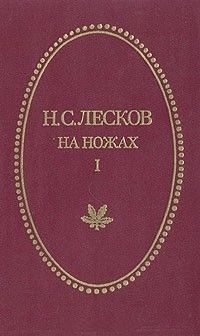
Выродившийся нигилизм напугал общество! Раньше нигилисты шли в никуда. Они представлялись аморфной массой, не способной продолжить дела прежних поколений, добровольно согласившиеся подпасть под влияние ниспосылаемого на них. Но вдруг. Практически из ниоткуда. А может никто не следил за развитием брожения мысли в умах молодёжи, грянуло убийство студента Иванова, к 1871 году ставшее громко звучащим Нечаевским делом. Общество начало осознавать — какая напасть грозит дальнейшему спокойному существованию под крылом царя-реформатора Александра II. Достоевский после по мотивам напишет «Бесов», а Лесков уже спешно создавал роман «На ножах». Чего только ему не пришлось испытать, ибо замысел встречал повсеместное сопротивление, в том числе и в издававшем произведение журнале «Русский вестник». Ещё не успело сформироваться устойчивого мнения касательно произошедшего события, судебное разбирательство только готовилось, не став широким достоянием общественности. Читатель не желал принять романа на подобную тему. Всё-таки не мог выродиться нигилизм. Общество, как всегда, успокаивало себя отказом видеть очевидное. Что же, таковая слепота приведёт к самым печальным последствиям уже через одиннадцать лет, а пока Лесков спешно писал «На ножах», оказавшись на этот раз небывало многоречивым.
На самом деле, при громкости сообщаемой информации о замысле Лескова, сам роман вышел на удручение блеклым. Николай не писал в сжатой форме, сообщая информацию по существу. Он опять напомнил манеру изложения, испробованную на другом громком его произведении — «Некуда». Смысл у него прятался не между строк, а должен был быть отжат из сообщаемых слов, из-за обилия которых такое действие сделать довольно затруднительно. Всё-таки, Лесков взялся за важную тему, позволяя читателю истомиться ожиданием развития событий. Пока предстояло внимать сытой жизни молодой дамы, имеющей всё ей требуемое. К такой с пустыми просьбами подходить бессмысленно. Однако, ход мысли заранее ошибочен. Наоборот, кому всего хватает, тому недостаёт острых впечатлений. Но даже если и этого в избытке, тогда огонь в глазах зажжёт пробуждение памяти о былом. Так на страницах романа подготавливается трагедия, близко сходная с уже тут упомянутым Нечаевским делом.
Когда не видишь смысла в жизни, начинаешь творить непотребства. Вот кого показал теперь Лесков? В его героях присутствует истинная отрешённость от всего, смешанная со стремлением к самоуничтожению. Всему следует быть повергнутым во прах. Потому не возникает жалости даже к себе. Быть убитым? Это не станет проблемой. Даже лучше — нигилист специально полезет на рожон. Его попросят кого-то задушить? Задушит! Сперва он свернёт шею животному, а там — в перспективе — и человеку. Как же это следует трактовать?
Очень просто. Изначально являясь аморфной массой, то есть сохраняя нейтралитет абсолютно ко всему, нигилистическое течение мысли перешло к следующему значению с отрицательным знаком. Так родилось движение, ежели как и именуемое, то скорее анархией. Для современников Лескова оно пока ещё оставалось выродившимся нигилизмом, хотя существование радикализма в отношении его под большим сомнением. Историю не перепишешь, потому нужно остановиться на том факте, что социальный взрыв произошёл, а его взрывная волна захватывала умы молодёжи. Скоро во всю развернётся террор различных движений народовольцев. Пока же общество даже не понимало, каким будет суд по Нечаевскому делу.
Ум бродит вне связи с разумом — яркая характеристика для идей, отрицающих плавный переход от одного состояния к другому. Десять лет — это малый срок, чтобы сформироваться единой мысли для многих людей. А вот лет через тридцать-сорок выродившийся нигилизм точно дозреет до масштабного противодействия государственному режиму. Впрочем, так далеко заглядывать не стоит — в 1869 году был сделан самый первый шаг.
Автор: Константин Трунин