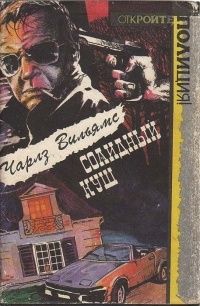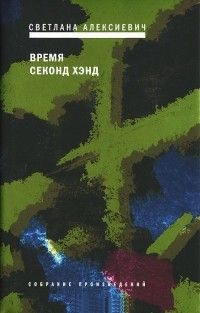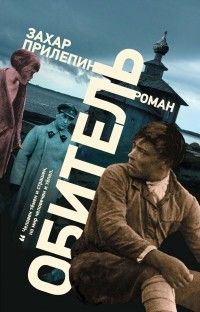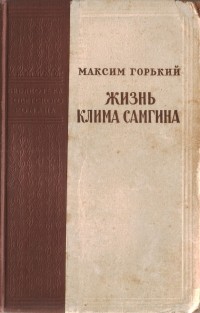Валерий Залотуха «Свечка. Том 2» (2014)
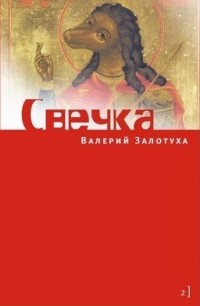
Говоря о манере изложения Валерия Залотухи, можно посетовать на особенность русского понимания действительности. Автор погружается в мир переживаний, не претендуя на что-то определённое. Не имеет значения сюжет, тогда как важно разобраться в составляющих бытия. Ничего не происходит без обоснованных причин, кроме появления на страницах угодных писателю моментов. Под этим следует понимать не стремление видеть происходящее в истинном свете. Тут иная причина, объяснение которой кроется в неумении заинтересовать читателя действием. В потоке сознания рождаются герои и им же даруются для них поступки. Всё остальное добавляется для вкуса, тогда как оно не имело права быть заслужившим внимания.
Хорошие произведения пишутся годами, но когда количество лет переваливает за десяток-другой, трудно уловить определённую единую линию повествования. Залотуха также вымучивал «Свечку», записывая плохо связанные друг с другом истории, подавая под видом единого художественного полотна. Когда второй том встречает уже не тюремными сказками, а даёт представление о событиях времён гражданской войны, где некий дед лечил все болезни одной мазью. От всех хворей лучше прочего помогает убеждение, либо замысел Валерия останется плохо усвоенным. За счёт лжи действующие лица избежали уничтожения, накормив сомнительными лекарствами пришедших карателей. Рассуждать далее не требуется, поскольку повествование пойдёт иным путём, словно задействованная Залотухой сцена пришлась просто для необходимости заполнить белые листы текстом.
Вполне может оказаться, что Валерий выстраивал вертикаль жизни, разрывая повседневность визитами в прошлое. Без прежних поколений не быть последующим, потому важно показать ранее происходившее. Позиция понятная и вместе с тем неприемлемая. История не знает новых поворотов, следуя изгибам случившихся событий. Дать о былом представление, пустив читателя по этим самым изгибам, не являясь тем, кто может о том говорить как о прочувствованном лично: вот как должна быть охарактеризована «Свечка».
Устав от лекарских изысканий деда, читатель получит сказ о семье, где мальчики взрослели и становились попами, а девочки — попадьями. Залотуха получил возможность говорить на религиозную тему — самую неисчерпаемую из возможных для обсуждения тем. И неужели именно такой сюжет должен предшествовать рассказу о боксёрах? Читатель резко переходит от исторических реалий к будням спортсменов, наблюдая за стремлением автора понять, о чём думают бойцы, когда бьют друг друга по голове. И опять повествование вернётся в тюремные застенки, откуда и не требовалось уходить.
Почему бы не сравнить «Свечку» со «Смирительной рубашкой» Джека Лондона? Отчего Залотуха предпочёл использовать в произведении невразумительные уходы от реальности, тогда как у Лондона они получались гораздо осмысленнее? И это при том, что герой «Смирительной рубашки» бредил прошлым, оказываясь в незнакомых ему условиях, так как находил в том спасение от доставляемых ему страданий, а действующее лицо «Свечки», сугубо по воле автора, ловит сообщаемую ему информацию о чём-то канувшем в Лету.
Второй том неизбежно подойдёт к завершению. Живи Залотуха дольше, быть продолжению. Нельзя остановиться в потоке сознания, ибо нет ему начала и конца. Но всё подходит к окончанию, каким бы образом то не случалось. «Свечка» завершится тем же, с чего всё началось, и чем произведение оказалось наполнено. Остаётся повторить, вместе сообщённое не может восприниматься цельным, тогда как сообщённое врозь или в форме рассказов, оно могло иметь больший вес. Но произведение должно оцениваться в полном объёме, дабы вынести о нём верное суждение.
Предлагается задуть «Свечку» — время прошлого ушло.
Автор: Константин Трунин