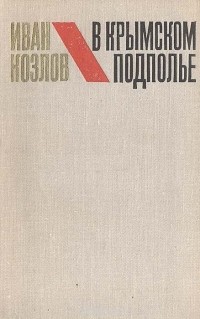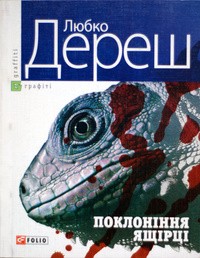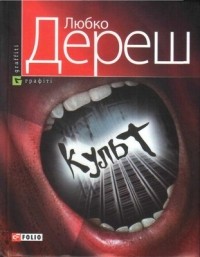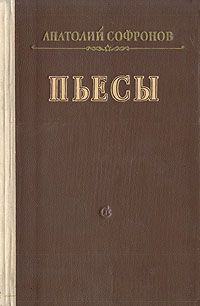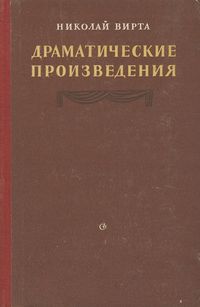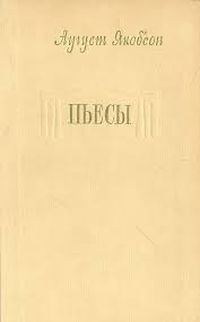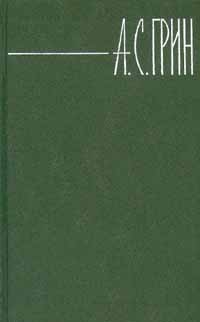Василий Шукшин «Материнское сердце», «Микроскоп» (1969)

Человек желает одного — в действительности происходит другое, потому как не дано пожинать счастье, не сталкиваясь с горем. А порою случается так, что твои желания не хотят принимать за должное быть. Допустим, каким образом мать должна доказывать правоту слов, выгораживая сына, если тот совершил преступление, помимо прочего применив физическую силу против охранителя правопорядка? Кажется, чувства матери можно понять, сделав всё, лишь бы она не переживала за судьбу сына. Однако, на каком основании так следует поступать? Не столь важно, какими мотивами оперировал сын, прежде обманутый и попавший в неприятное положение, он совершил непоправимое, пытаясь обосновать несправедливость, с ним произошедшую. Как раз на этом будет настаивать мать, убеждая всех и каждого в необходимости уберечь сына от наказания за содеянный проступок. Куда она может обратиться? Милиция разведёт руками, их сотрудник находится теперь в больнице на лечении. Прокуратура? Но и она ничего не сделает против свершённого деяния. Идти выше? Пожалуй, к чему Шукшин и апеллировал, мать не успокоится, пока не добьётся для сына снисхождения. Василий специально ставил перед читателем ситуацию, в которой понимаешь произошедшее, не зная, какую сторону занять. Об этом он писал в 1969 году в рассказе «Материнское сердце», отразив ровно всё, о чём должна мыслить каждая мать, невзирая на недостатки, присущие её детям, не способная предстать перед разбитыми ожиданиями.
Разбитых ожиданий Шукшин коснулся и в рассказе «Микроскоп». Захотелось главному герою приобрести микроскоп, чтобы изучать окружающий мир. А где взять деньги? Жена покупку не одобрит. Пришлось придумывать, будто потерял деньги, приберегая на потом, когда под видом благодарности начальства он принесёт домой микроскоп, так им желанный. Ситуация понятная, насколько и должное последовать разоблачение под видом проговорившегося товарища. Естественно, микроскоп жена изымет и унесёт обратно. Но разбитые ожидания в рассказе случились по другой причине.
Что такое микроскоп для человека? Вернее, для представления о мире того, кто вырос на селе? Когда перед тобою открывается ещё один мир, прежде неведомый, в голове рождаются разные мысли, не всегда соотносимые с истинным положением дел. Вот и главный герой вообразил себе невесть какое измышление, обнаружив подвижные частицы в капле человеческой крови. Он сразу принял решение о необходимости придумать способ, как эту живность извести, ведь именно из-за них человек не обладает способностью жить до ста лет. Последуют различные ухищрения, вроде способов по нанизыванию микроорганизмов, их уничтожению и прочему. Причём такое увлечение примет навязчивый характер. Вооружившись ложным устремлением, главный герой станет рассказывать о собственных домыслах, чем всё больше начнёт озлоблять жену, согласную найти любой предлог, только бы микроскоп у мужа отобрать.
Такими получились разбитые ожидания в представленных рассказах Шукшина. Вернее, разбитыми они как раз не являлись, поскольку человек не может быстро изменить точку зрения, не выработав способность иначе взглянуть на действительность. Кто-то и вовсе никогда не пойдёт на сделку с совестью, готовый отстаивать точку зрения до конца, пусть и осознавая её ошибочность. Виною тому мнение, гласящее, якобы всегда следует придерживаться занятой позиции, никогда от неё не отказываясь, дабы не прослыть за переменчивого человека. О подобном Шукшин вовсе не писал. Просто, не всякая мать узрит в проступках ребёнка источник общественных бед, и не всякий гражданин различит, насколько лучше иной раз ему промолчать, не раздражая окружающих надуманными выводами из наблюдений.
Автор: Константин Трунин