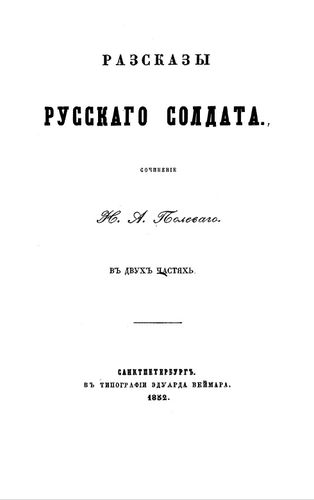Михаил Салтыков-Щедрин «Пёстрые письма» (1884-86)

С 1884 года Салтыков был вынужден подвергнуть свой стиль большему иносказанию. Если сказки читатель как-то мог ещё трактовать, то касательно «Пёстрых писем» терялся совершенно. Было понятно, о чём-то Михаил ему пытался сообщить. Но о чём? Понятия того так и не наступит. Да и сам Салтыков не мог найти площадку для публикаций после закрытия «Отечественных записок». Издание «Русские ведомости», куда Михаил отправил первое «пёстрое» письмо, ответило отказом. Согласие пришло только от «Вестника Европы», на страницах которого Михаил в дальнейшем опубликовал последующие письма. Салтыков даже огорчался, насколько принудил себя ограничить в выражении мыслей. Иного ему не оставалось, если он желал добиться публикации.
Первое письмо читатель встретил с воодушевлением. Последовали многочисленные отклики. Только мало кто сумел понять суть написанного. Вроде бы Салтыков должен был говорить о важном. И говорил ли он это? Цензура предпочла сделать вид недопонимания. Салтыков написал нечто загадочное — настолько, что вникнуть в текст не представлялось возможным. Говорить о прочитанном можно в любой степени осмысленности, оставаясь правым или глубоко ошибаясь. Наиболее категоричный читатель вовсе отказывался от чтения такого «пёстрого» письма, с вполне понятной формулировкой: «всё мимо ушей». И такой читатель оказался в преобладающем количестве, учитывая реакцию на последующие письма — её не последовало. Начиная со второго письма Салтыков словно писал ни для кого. Либо люди понимали необходимость молчать, обсуждая прочитанное между собой, или все махнули рукой на иносказательную форму уже непосредственно иносказания.
Как тогда быть Михаилу? Писать прямым текстом он не мог. Его вариант аллегорий на действительность перестали воспринимать. Не встречая отклика, душевное состояние должно было нарушиться. А следом обязательно начнутся проблемы с самочувствием. В этом ли стоит искать объяснение, почему, опубликовав семь писем, Салтыков тяжело заболел. Может Михаил собирался с мыслями. Пытался осмыслить сложившееся положение дел. Как ему заново пробудить интерес у читателя? Спустя год после седьмого письма, Салтыков написал восьмое, теперь уже пронумерованное. Прежние письма писались словно дополняющими одно другое. Но уже девятое письмо станет заключительным. Оставалось подготовить «Пёстрые письма» отдельным изданием, что и было сделано.
Как же читатель должен характеризовать все письма в совокупности? К сожалению, необходимо вникать в текст как можно глубже, так как поверхностное чтение не даёт никакого представления о содержании. Нужно не просто вчитываться, а соотносить с тогда происходившими событиями. Современник Салтыкова может и мог сделать такое соотношение. Как быть с более поздним читателем? Советский читатель мог уже не упомнить особенностей начала царствования Александра III, чтобы делать соответствующие для чтения выводы. Особенно понимая и осторожность самого Салтыкова, чей стиль становился всё более осторожным. Как читателю искать должное его заинтересовать? Гораздо проще обратиться к другим работам писателя, написанным гораздо ярче.
Впереди у Михаила было ещё три года для творчества, оставалось не так много времени для выражения мыслей. Здоровье продолжало ухудшаться. Видел ли Михаил заинтересованность к им делаемому? Отчасти это он понял по реакции на восьмое «пёстрое» письмо, встретившее тёплые отклики. Читатель радовался возвращению Салтыкова, говоря о долгом отсутствии так нужных ему слов. Насколько это было именно так? О том тяжело судить, учитывая сложившуюся обстановку. Да и к чему теперь писать Михаилу, когда всё настолько радикально изменилось в жизни. Он застал борьбу во имя преобразований, теперь наблюдая за её угасанием.
Автор: Константин Трунин