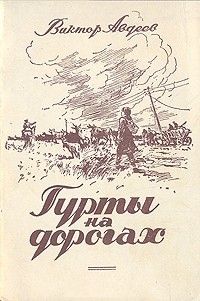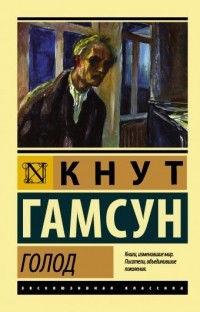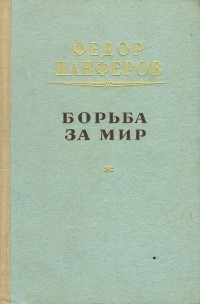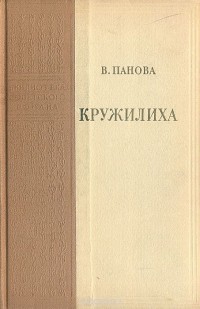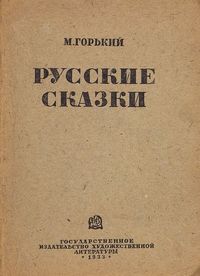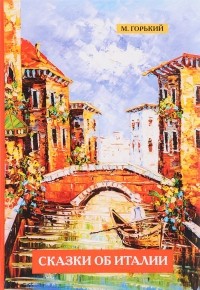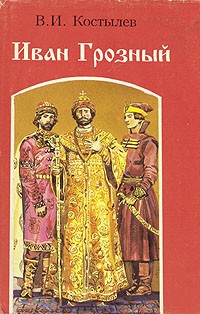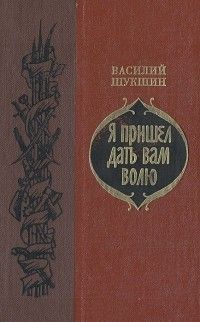Борис Галин «В Донбассе» (1946), «В одном городе» (1947)
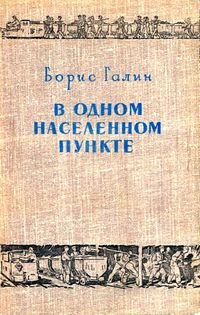
После нашествия Третьего Рейха Донбасс лежал в руинах. Немцы специально уничтожали инфраструктуру, заливали шахты водой, взрывали мосты, хотя бы так ослабляя поступь Красной Армии. Что об этом думал Галин? Он не укорял врага за содеянное, он так должен был поступить согласно логического осмысления войны. Но о чём Галин не говорил, так это об обстоятельствах, при которых приходилось сдавать Донбасс непосредственно Советскому Союзу. Неужели, в самом деле, рабочие покидали заводы, шахтёры — шахты, животноводы — животных, крестьяне — поля, оставляя всё для завоевателя в целом виде, дозволяя брать и продолжать пользоваться? Тогда логическое осмысление войны даёт сбой. Во всяком случае, Галин считал необходимым говорить о последствиях, содеянных при участии немцев, тогда как весь урон, нанесённый советскими гражданами при отступлении, не упоминался вовсе.
Два цикла очерков, названные Галиным «В Донбассе» и «В одном городе» (либо «В одном населённом пункте»), дополняют друг друга. Повествование построено в форме рассказа от очевидца событий, видевшего описываемое самостоятельно или доводя до читателя с чужих слов. Ещё во время начала войны жители Донбасса искали возможность вернуться назад, наладить производство и продолжить снабжать армию в прежнем духе. А перед этим следовало покинуть регион, отправляясь на фронт или на Урал, куда эвакуировались заводы. Галин покажет, каким необязательным образом это происходило на примере ответственного за перевозку чертежей. Казалось бы, производство встанет, не будь в распоряжении соответствующих инструкций. Они — важная часть при эвакуации завода. Отнюдь, вагон с чертежами будет колесить по стране, долго простаивая в ожидании попутных поездов, изредка забываемый вовсе, отчего приходилось слать телеграммы на самый верх. Да и рабочие, помогавшие перегружать документы, не совсем понимали важность, обращаясь с бумагами так, что это могло привести к их порче.
А как обстояло дело прежде, когда металлургия в советском государстве развивалась? Специалисты отправлялись на практику в Америку и в Германию, перенимали драгоценный опыт производства. Стоит сказать про первый завод на Донбассе — это тот самый: Юзовский, некогда созданный англичанином Джоном Юзом. Теперь он именовался Сталинским, хотя бы по той причине, что Юзовка переименовывалась при советской власти в Сталин, затем в Сталино, а через пятнадцать лет, после очерков Галина, будет именоваться Донецком.
Мало восстановить заводы и шахты, требуется озаботиться воссозданием промышленного потенциала в комплексе. Ведь ясно — без электричества завод не принесёт пользы. Для этого начнут возводить ГЭС. Личный контроль для наблюдения за стройкой взял на себя Никита Хрущёв.
Отдельно Галин рассказывает историю политработника. Этот человек во время войны должен был мотивировать солдат, внушать уверенность и, когда то требовалось, личным примером показывать необходимость встать в полный рост и идти в атаку на врага. Не уменьшалось значение политработников и при деятельности в тылу. Они жаром речи, устраивая постоянные собрания, объясняли, насколько нужно стараться и давать больше стране продукции, тем способствуя приближению победы. Существовало нечто вроде негласного интереса к тому, каким образом политико-воспитательные беседы сказывались на производительности, насколько повышался или снижался объём производимой продукции.
Циклом очерков Галин создавал требуемое у читателя впечатление о важности необходимости ценить подвиг не только солдат, рисковавших жизнью ради достижения успеха в войне, но и обратить внимание на трудившихся на заводах, электростанциях, в шахтах и на остальных предприятиях, без чей деятельности победа не могла оказаться достижимой. Так и думалось в первые годы после окончания боевых действий, совершенно забываясь со временем.
Автор: Константин Трунин