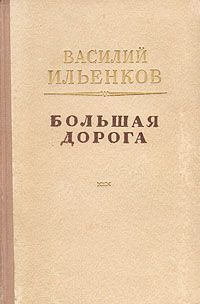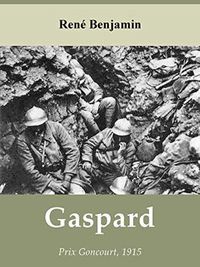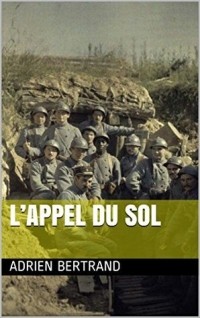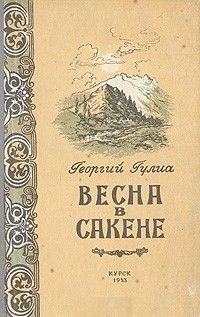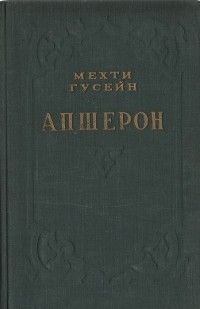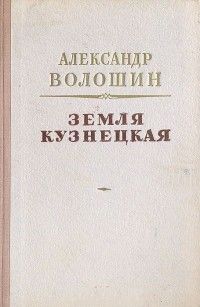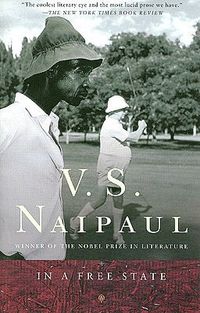Василий Шукшин «До третьих петухов» (1974)

Каждый творец обязательно упирается в стену, когда приходит к мнению, что устал от прежде им сделанного, что пришла пора меняться в творчестве, что так и запомнится читателю в качестве писателя, зацикленного на единственной теме. Попытку измениться Шукшин уже сделал, написав «Калину красную». В какую сторону идти дальше? Неужели писать про раскрытие души человеческой, не имеющей способности отказаться от исходящего изнутри? Но такой путь довольно опасен, учитывая крепко сложившуюся в Советском Союзе традицию не вступать в противостояние с обществом. Надо создавать такие произведения, которые современник примет с благостью. Вроде бы к «Калине красной» не возникло обилия претензий. Однако, воспринимать Василия могли начать иначе. И вот он взялся писать нечто такое, чему нельзя найти разумного объяснения. Впрочем, остаётся полагаться на задумку Шукшина излагать в форме аллюзии, не давая излишне ярких намёков на очевидное для сограждан.
Среди действующих лиц произведения затесались личности вроде Ивана Муромца, бедной Лизы, Акакия Акакиевича, Ивана-дурака, Обломова и прочих. Рассуждали они о разном, как о насущном, так и о тлетворном, пока бедная Лиза не посмела выразить осуждение в адрес Ивана-дурака, мол, он всех литературных персонажей позорит отсутствием ума. Не будет ли он так мил найти возможность доказать, насколько имеет право на присутствие среди выдуманных персонажей. Создав такой зачин, Шукшин отправил главного героя ходить-бродить по городам и весям, по полям и чащобам, вплоть до мест совсем дальних, вроде располагающихся за тридевять земель. И искал Иван-дурак не абы кого, а мудреца, имеющего право заключать, кому из людей полагается быть умным, а кому навеки прослыть за глупца. Вполне очевидно, без бумажки ты букашка. Ежели так, то Иван-дурак обязан раздобыть справку, в которой бы сообщалось, что он не дурак, а вполне очень даже умный человек.
Василий сделал всё, чтобы дурость Ивана не воспринималась за таковую. В самом деле, разве Иван потому дурак, коли дураком назван? Кто вообще определил, будто это означает присущую ему глупость? Отнюдь, дурак из Ивана далеко не глупый. Скорее следовало говорить с иной точки зрения. Проще было назвать Ивана простаком, поскольку он лишён хитрости. Вернее, Иван бесхитростный. Но и тут не совсем всё верно, учитывая присутствие у Ивана смекалки. Тут и читатель обязывался подметить, ссылаясь хотя бы на один известный указ Петра Великого, где сообщалось: подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Известная истина: проще сойти за дурака, как тебе всё простят, но сделай умное лицо, и ты потеряешь доверие после первого промаха. Потому, даже в самой непростой ситуации не берись за разрешение проблемы с видом знатока. Сия народная мудрость некогда и нашла воплощение в образе Ивана-дурака.
Как же Ивану добыть справку? Пусть он найдёт нужного ему человека. Но… по какой форме должна быть та справка? И почему именно справка, а не, допустим, диплом? И куда это он потом сможет приложить? Да и так ли важен сам документ, если на нём нет печати? Может важнее иметь печать, тогда и справку любую сам себе сможешь написать.
К концу повествования Василий внёс полную ясность в действие. Получалось так, якобы Иван ходил за тем, сам не зная за чем, и принёс то, чего от него не ждал никто. Просто в советском государстве, как и в стране российской, любят придавать значение документам о чём-то, тогда как они к самой деятельности человека отношения обычно вовсе не имеют.
Автор: Константин Трунин