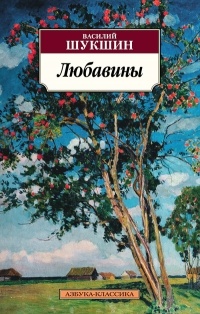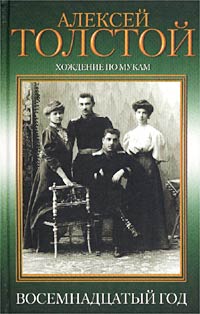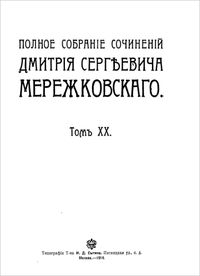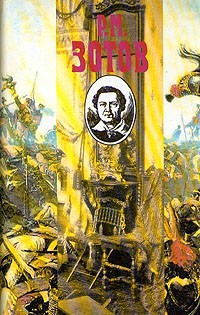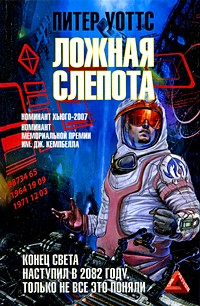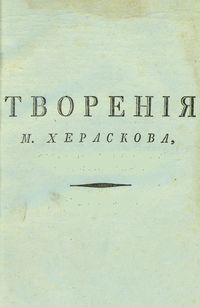Райдер Хаггард «Сельская Англия. Часть I» (1902)

Как улучшить сельское хозяйство Англии? Для него нужно изыскать послабления. Не давить на фермеров и не выжимать из них последнее, а создать комфортные условия для существования. В том Райдер проявлял твёрдую уверенность. Он посчитал возможным посмотреть на проблемы Англии изнутри, для чего посвятил несколько лет. Куда-то он ездил лично, чаще вёл переписку. В результате получилась полновесная монография, разделённая на два тома. Интересующемуся текстом предлагалось рассмотреть каждое графство отдельно, стараясь понять, чем оно лучше или хуже остальных, когда приходится говорить о касающемся их сельском хозяйстве. Оказывалось, лучше быть рабом на плантациях, нежели фермером на Туманном Альбионе.
Сперва Хаггард пытался выяснить, отчего решил проявить интерес к сельскому хозяйству. Возможно, как говорит он сам, этому поспособствовало его рождение в окружении деревенского быта: под мычание коров и прочие факторы, способные дать человеку стремление к определённому. Повествование Райдер начал с графства Уилтшир, островных территорий Гернси и Джерси.
Что становилось ясным сразу? Быть фермером трудно. Это может быть связано и с имеющимися в английских графствах крупными землевладельцами, преимущественно дворянского происхождения, с которыми трудно наладить совместное сельское хозяйство.
Насколько текст от Хаггарда информативен? В целом, в какую область земного шара не загляни, везде встретишь одинаковое отношение к фермерам. Выводы Райдер придержит для заключения, тогда как читатель должен был продолжать понимать, насколько фермеру тяжело трудиться.
Затем следовали графства: Кент, Девоншир, Хэмпшир, Сомерсет, Дорсет, Херефордшир, Вустершир, Уорикшир, Шропшир, Суссекс, Корнуолл, Хартфордшир и многие прочие. В иных местах сельское хозяйство презиралось, лишённое понимания необходимости его существования. Другие графства соотносили возможности почвы, вынужденно становясь сельскохозяйственными регионами. Насколько не будь фермерство в трудном положении, оно всё-таки могло предоставлять отличную молочную продукцию, порою самого высшего качества.
Пройдясь по южным графствам, включая западные и восточные оконечности Англии, Хаггард не рассматривал Уэльс, как бы не относился он к непосредственным английским владениям. Пока читатель не до конца понимал проблем уже изученных Хаггардом графств. Становится яснее, стоило Райдеру перейти к графствам, располагающимся рядом с Лондоном.
В чём выгода от фермерства вблизи столицы? Прежде всего, лёгкая транспортная доступность к большому рынку сбыта. Соответственно, проще стать успешным фермером, в отличии от удалённых от Лондона графствах, где сельскохозяйственный труд и считается самым неблагодарным ремеслом. Становилось ясно, к чему в итоге Хаггард подведёт, какие он будет предлагать решения. Ведь понятно, сельское хозяйство должно быть одинаково успешным во всех уголках Англии. От этого зависит не столько возможность фермеров достойно существовать, сколько повышается престиж самой Англии, должной получить расширение выпускаемой продукции, специально для того покупаемой иностранцами.
Частично рассматривает Райдер и особенность ведения англичанами сельского хозяйства. К его сожалению, английский фермер — чаще не является человеком от и для сельского хозяйства, им является любитель со стороны, просто решивший заняться хоть каким-то делом, из которого можно извлечь мало-мальскую прибыль. Об этой особенности фермерской деятельности жителей Туманного Альбиона часто рассказывали все, кто был так или иначе связан с сельской жизнью, особенно в силу профессиональных обязанностей.
В конце первого тома Хаггард всё чаще заговаривался о нуждах рабочих, которым обязательно следует улучшать условия труда и повышать заработную плату. На фоне роста движения социалистических воззрений, такая позиция Райдера ставила его в крайне невыгодное положение. За подобную критику власти, не соглашавшейся заниматься улучшениями, Хаггард мог удостоиться критики, исходящей с самого высокого уровня.
Автор: Константин Трунин