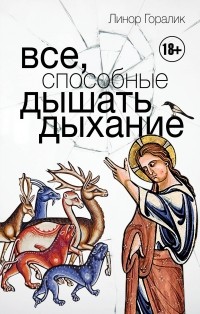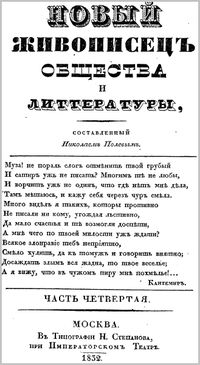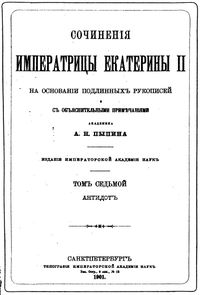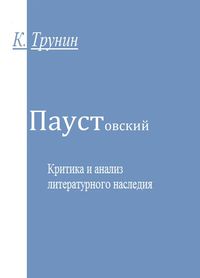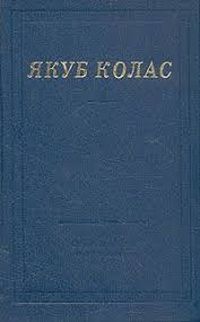Даниил Туровский «Вторжение. Краткая история русских хакеров» (2019)
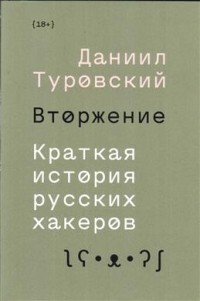
Воровать, портить, ломать, подменять одну правду другой — присущие человеку качества с древнейших времён. Ничего не меняется и в наши дни. Изменяются методы, тогда как суть остаётся неизменной. В век цифровых технологий, когда информация способна разноситься по миру со скоростью света, кто-то обязан регулировать её поток, но будут и те, кто обладает способностью останавливать её распространение, усиливать скорость, либо изменять содержание. Собственно, к тому хакерство и стремится, тогда как прочее — забавы, уже сегодня ставшие историей.
Даниил Туровский взялся за малую составляющую хакерства — русскоговорящую. Для того он начнёт не из самого далека, с увлечения подростков в конце восьмидесятых и в начале девяностых играми на приставках. Казалось бы, невинное занятие. Стремление к будущему увлечению формировалось со школьной скамьи. Туровский и говорит, когда человек становился не просто программистом, а хакером, тогда его жизнь уподоблялась американскому боевику. О самых громких случаях Даниил постарался рассказать. Остаётся гадать, сколько случаев хакерских атак потонуло в безвестности, поскольку их организаторов так и не смогли вычислить.
Хакерство потому и расцветало, что не имелось никаких законов, способных ограничить их деятельность. Даже публиковался журнал «Хакер», на страницах которого прямым текстом с примерами сообщалось, каким образом взламывать сайты, воровать деньги с кредитных карт и многое прочее. Популярность журнала возросла до таких вершин, вследствие чего в самой отдалённой части России могло не быть никаких периодических изданий, зато журнал «Хакер» неизменно находился. На это издание Даниил чаще всего и предпочитал опираться на страницах «Вторжения».
История за историей: от удовлетворения собственных амбиций по обогащению до политической борьбы. До становления Шойгу министром обороны, никто всерьёз талантливыми программистами не интересовался. Те вели борьбу на собственное усмотрение, чаще направленную на внешние источники. То есть будто существовал негласный кодекс: российское не трогать. И хакеры не трогали, если не желали быть привлечёнными к уголовной ответственности. Поэтому они могли взламывать сайты иностранных организаций и органов власти, либо устраивать атаки, парализующие их работу, чем чаще всего и удовлетворялись.
Туровский неизменно будет вести речь к иному осмыслению хакерства. Хакеры уподобятся бойцам невидимого фронта. К тому всё в итоге и приведёт. На самом деле, нужно только задуматься, Мировая война давно началась, причём называться она должна Информационной, а то и просто Кибервойной, можно дать ей именование и Второй Холодной войны. Сражение происходит вне внимания, подчас никто не знает о её ведении. Однако, хакерство уже сейчас реализует принцип власти — кто управляет информацией, тот правит миром.
Не зря Туровский сообщает про Фабрику троллей. Это не хакерство в чистом виде, но умелое вбрасывание сведений, заставляющих неокрепшие умы думать, будто так оно и есть. Вполне следует предполагать, умение получать доступ к сайтам и подменять информацию, есть первый шаг к кибернетике будущего — умении программировать человеческое сознание. А так как это взаимосвязанные явления, значит и результат будет всегда получаться таким, какой требуется задумавшим его получить.
Итак, в России создаются кибервойска, страна готовится перейти к новой фазе существования, нужно научиться не столько атаковать, сколько защищаться. Однако, возникает другая проблема, хакеры вступают в такую же новую фазу, нисколько не согласные удовлетворять чужим представлениям о требуемом. Как быть? Учиться существовать в изменяющемся мире. Отныне, хакер-индивидуалист не будет из себя ничего представлять. Более того, хакеры станут безвестными, воплощая не себя, а специально созданные объединения. Но это уже другая история, до чего Туровский дойти в повествовании не успел.
Автор: Константин Трунин