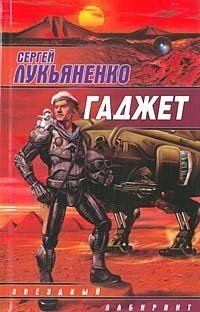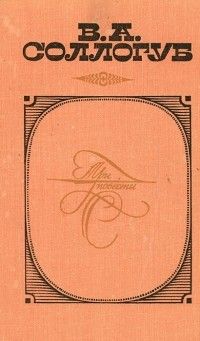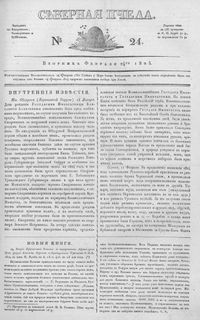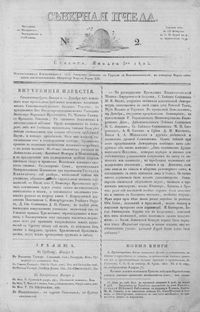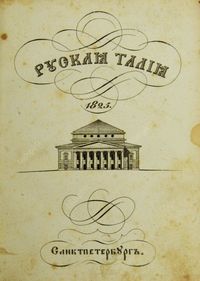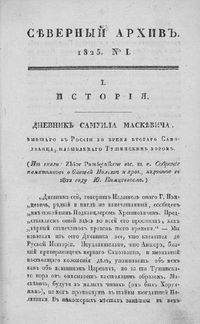Александр Островский «Не сошлись характерами!» (1857)
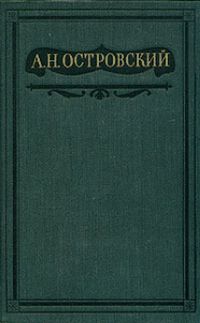
Почему бы разом не воздать всем, кто страждет обогатиться за чужой счёт? Дав представление о Михаиле Бальзаминове, Островский следом пишет про похождения схожего с ним персонажа — Поля Прежнева. И если Бальзаминов продолжает надеяться на ежегодный доход в тысячу рублей, то Прежнев получает желаемое, без откладывания на потом. Однако, Александр на этот раз проявил жестокость. Пусть герой пьесы обретает искомое, начинает купаться в представляемой им роскоши, позволяет себе думать о возможности расплатиться с кредиторами: ничего подобного не осуществится, поскольку жена попадётся ему из таких людей, которые не готовы пускать деньги на ветер, тем более доставшиеся не по праву родства, а за заслуги перед успехами в купеческом ремесле.
Но как быть с любовью? Для Прежнева брак не казался прагматичным мероприятием. Он брал в жёны овдовевшую женщину, наделённую необыкновенной красотой. Деньги служили приятным довеском, побуждающим скорее вступить в семейные отношения. Родители тому радовались, особенно мать, благодаря чьим стараниям семья едва не разорилась, но должная вскоре лишиться последнего, если сын не сумеет изыскать средства для погашения долга. Ведь нет ничего зазорного в том, чтобы за чужой счёт поправить собственное положение. Благо Поль взаимно любим, благодаря чему чёрная полоса должна уступить место белой.
Как быть с невестой? Будучи человеком ответственным, знающим цену каждому рублю, она соглашается на неравноценный брак. Виною тому любовное чувство, заставляющее разумное осмысление отступать перед желаниями души и плоти. Казалось, будущий муж образумится, возьмётся за ум и будет помогать семейному делу. Либо не казалось, так как с любовным чувством трудно справиться. Невеста понимала — хорошего от мужа ждать не приходится, о чём продолжал вторить её отец, справедливо полагавший: жениху нужно поправить финансовое положение.
Что же происходило в стране, если брак теперь не позволял осуществляться мечте на быстрое обогащение? Женившись на девушке с состоянием, Поль справедливо полагал — сможет свободно пользоваться капиталом невесты. Не должна жена противиться воле мужа, обязанная следовать за его желаниями: так мог полагать незадачливый муж. Времена действительно менялись, и женская воля как никогда обретала силу. Если Поль желает взять деньги из накоплений жены, пусть приложит старания, прежде к оным плодами своего труда присовокупив. Того Поль не умел. И не быть беде, продолжай он жить с женою в таких отношениях. На беду пришёл товарищ, требующий полного расчёта. Неужели жена не согласится выручить мужа? Именно… не согласится!
Островский вынес суть окончания произведения в название. Характерами действующие лица подлинно не сошлись. Любовное чувство успело остыть в положенный тому срок, хоть как-то компенсировавшее недостатки сторон. Случись критическая ситуация раньше, может жена и снизошла до просьб мужа. Теперь же, насмотревшись на него, она не хотела допускать лишние растраты. Ради какой цели? За одним кредитором придёт другой, затем следующий, из-за чего денежные средства буквально растают на глазах. Лучше с таким мужем вовсе расстаться, к чему Александр и подводил повествование.
А как же, — спросит зритель, — мнение про противоположности, должные друг к другу притягиваться? Кто-то обязан зарабатывать, тогда как другой будет тратить. Это кажется соответствующим должному быть. Может оно и так, сугубо в качестве позволительного допущения. Только до какого срока расчётливый человек согласится на взаимное притяжение пиявки? Ладно бы была пиявка — от неё польза. А с прежневыми характерами лучше вовсе не сходиться.
Автор: Константин Трунин