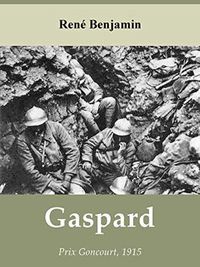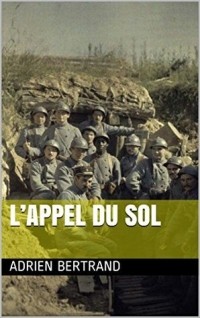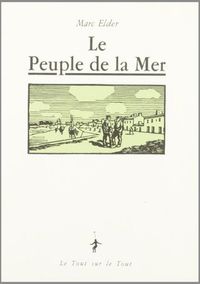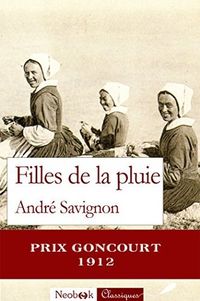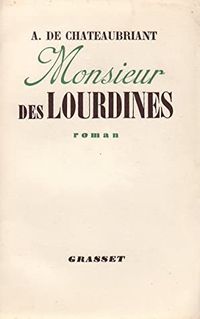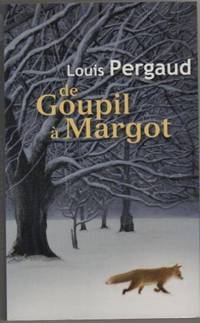Эрнест Перошон «Нен» (1914)

Первая Мировая война завершена. За 1919 год Гонкуровскую премию вручили Марселю Прусту, невзирая на явную направленность его творчества в сторону модернизма. А в 1920 году отметили премией сельскую пастораль «Нен» за авторством Эрнеста Перошона. Но вероятно не сразу узнали, что данное произведение было написано шестью годами ранее, тогда же изданное. То есть премии удостоилось переиздание книги другим издательством. Читатель понимает, в военные годы Перошон не мог стать лауреатом, причина чего понятна и очевидна. Либо посчитали за возможное вручить задним числом. Конечно, это не совсем справедливо по отношению к произведениям, впервые изданным именно в 1920 году. Но что же из того? Ориентиры оказались утраченными. Заново вспоминать о войне могли не желать. А тут такая примечательная картина сельского быта. Впрочем, не всё там действительно хорошо — есть отягощение в виде сохраняющихся традиций прошлого, некогда пошедших против воли большинства.
Что есть Конкордат Наполеона? Суть его свелась к подписанию между Первой Французской республикой и папой Пием VII договора об отделении церкви от государства. В ряде мест Франции сохранились земли, где люди посчитали данный договор не считать за действительный. Возникла проблема с иерархами, по причине невозможности назначения оных из Рима. Разрешить это затруднение не удалось, вследствие чего появился ряд особенностей в толковании религии. Только насколько это важно в понимании произведения Эрнеста Перошона? Разве только в том плане, что главная героиня принадлежит как раз к такой группе. Более подробно в это вникать не требуется.
Читатель в свою очередь может возразить. Каким образом закрыть глаза на явный конфликт между католиками, протестантами и вот этой группой верующих? Разве только в виду необходимости найти объяснение, почему придётся выбирать между религиозными принципами и правом человека жить без оглядки на верования других. Как поступит главная героиня? Она останется тверда в убеждениях. В таком случае, как оно и должно по идее быть, придётся смирить гордыню и искать счастье в ином месте. Поэтому читателю только и остаётся, как наблюдать за ростом напряжения среди действующих лиц. Был ли шанс на более спокойное существование? Перошон посчитал такое за невозможное.
Читатель мог бы оспорить точку зрения автора. Зачем показывать столь принципиального человека? Для чего доказывать приоритет мировоззрения, когда окружающие смотрят на мир иначе? На том и строилось произведение. В любом другом случае о чём бы тогда читатель узнал? Про мирное сосуществование. Желательно, чтобы всё происходило в молчании. Тогда быть всем на страницах счастливыми. Только вот зачем читать про идиллию? Особенно, если речь идёт о Франции — стране, настолько противоречивых взглядов на жизнь, где каждый каждому на протяжении долгих предстоявших веков был скорее за врага. У Перошона получилась ещё одна книга, где хотя бы не случилось совсем уж печального разрешения.
Кровь на страницах всё равно прольётся. Речь о несчастном случае. Человеку оторвёт руку на производстве. Ему окажут помощь, покрывшую лишь больничные расходы. Как жить далее? Проблема самого человека. Пожалуй, это самый запоминающийся эпизод из всей книги. Остальное гораздо труднее к восприятию. Попробуйте найти хотя бы одну адекватную критическую статью — не найдёте. Все они описывают прекрасно обрисованный автором мир, тогда как не даётся никакой существенной конкретики. Остаётся полагать, тут написано достаточно для выработки определённого отношения к произведению, всё прочее — повод самостоятельно ознакомиться с книгой.
Автор: Константин Трунин