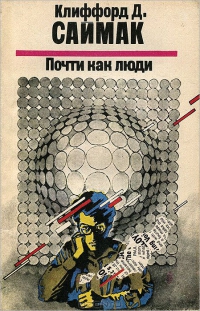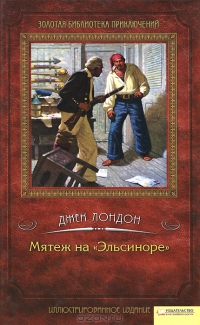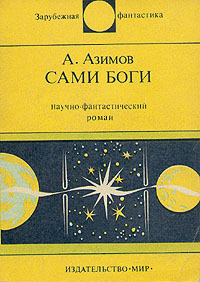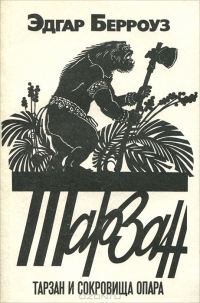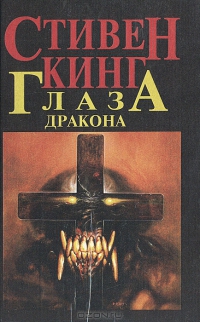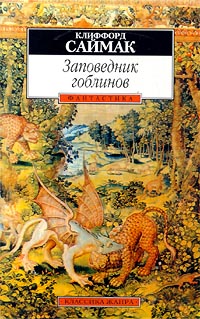Эдгар Берроуз «Тарзан Великолепный» (1939)
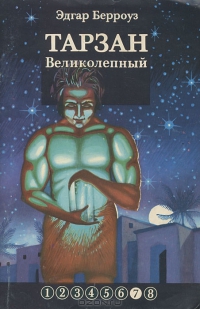
Цикл «Тарзан» | Книга №20-какая-то
И вот он — апофеоз творчества Эдгара Берроуза. Уже нет никакой привязки к чему-либо вообще, а есть конкретно заданная ситуация, одиноко бродящий по джунглям лорд Клейтон, он же Тарзан, разномастные европейские враги, сокрытые в листве гладиаторские стадионы и тайные города, а также бодрый элемент мистики. Всюду Берроуз пытался застолбить за собой место первопроходца, но чем дальше, тем читатель меньше удивляется, принимая всё как должное. Даже сюжет, который крутится вокруг самого большого в мире драгоценного камня, обладающего способностью наделять владельца даром внушения всем живым существам — это само по себе необычно в, казалось бы, самом обычном земном мире. Ещё с шестой книги Берроуз включил элемент некоторой замкнутой системы, где предстоит бродить главному герою, на которого постоянно будут обрушиваться всякие напасти в виде всевозможных недугов. (тут рецензент смело заявляет о неточном знании вопроса, ибо между шестой книгой и этой он ничего о похождениях Тарзана не читал)
Вообще непонятна вся ситуация с жизненной позицией Тарзана. Он просто бродит по джунглям, не имея какой-либо цели. Может его жена из дома выгнала, или выросший сын по законам стаи выбил старого вожака из седла и попросил покинуть семейный очаг. Берроуз замалчивает этот факт. А жаль, хотелось бы видеть цепочку связанного сюжета, а не набор разных серий, в которые цикл о Тарзане превратился с самого начала. И пускай бродит Тарзан, главное — ему никто не мешает: львов он давит одной рукой, с обезьянами общается по-братски, всем белым людям приходит на помощь. А в части про себя «Великолепного» даже борется с махровым проявлением негритянского расизма и нетерпения мужчин в матриархальном обществе. Сами понимаете, в джунглях многое можно случайно обнаружить — то город одичавших атлантов, то амазонок с тягой к арийству.
Позиции львов по-прежнему сильны в книгах Берроуза. Они также остаются подобием цепных псов, охраняющих строго заданную им территорию, а то и просто конкретно определённый угол. Правда теперь не такие кровожадные как раньше, да и автору надоело каждую с ними схватку описывать. Да и вообще непонятно, что львы в джунглях забыли. В такой местности они должны себя чувствовать весьма неуютно. Берроуз это понимает (хотелось бы верить), разбавляя львов иногда другими представителями кошачьих, отличных от косматошеих только названием.
Во многом, «Тарзан Великолепный» перекликается с похождениями Джона Картера на Марсе из другого цикла Берроуза. Может автор запутался? На Земле сильно с разнообразием флоры и фауны не разгуляешься, поэтому приходится держать себя в руках. Зато с людьми джунглей и различными тайнами — полный порядок, тут фантазия Берроуза работает в полном объёме. Пускай, уже не так замечательно как двадцать-двадцать пять лет назад, но всё-таки книги выпускались, а значит их кто-то ждал и даже читал. Наверное, добротная почва была подготовлена для золотого времени американских комиксов, воплотивших в рисованном виде практически все идеалы и стандарты сторителлинга, заложенные автором о похождениях Тарзана задолго до этого.
Осталось разгадать последнюю тайну — почему Великолепный? Ничего для обоснования этого не прилагается. Просто Великолепный и всё тут. Впрочем, читатель с первых книг приучен Берроузом к безапелляционности происходящих событий. Если автор решил сделать льва цепным псом со стремительностью гепарда, то он будет именно таким; если решил сделать Тарзана Великолепным… то и, да, не жалко.
Автор: Константин Трунин