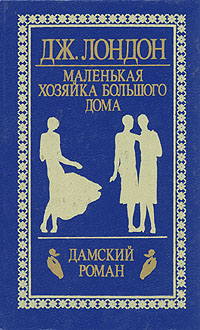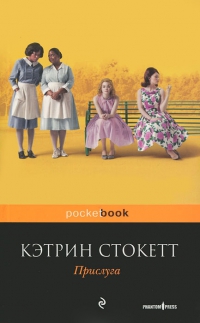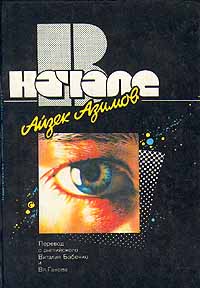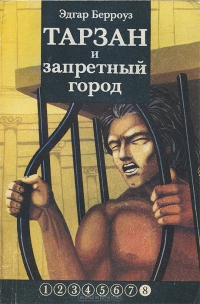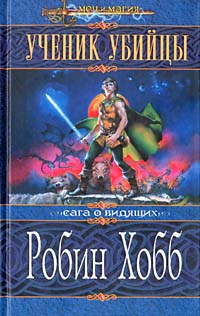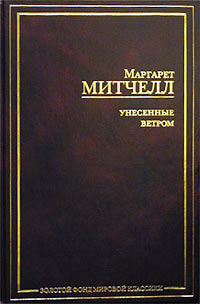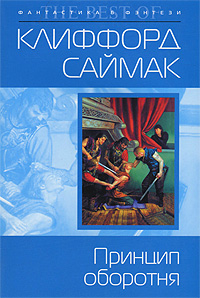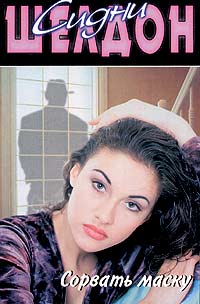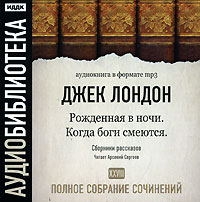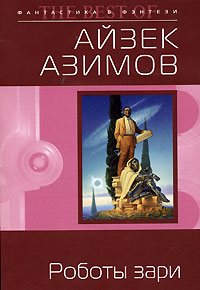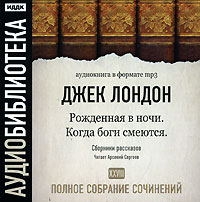
Сборники рассказов «Когда боги смеются» (1911) и «Рождённая в ночи» (1913) позволяют наиболее ясно для себя осознать писательский талант Джека Лондона. Читателя ждёт двадцать два рассказа, ничем не объединённых, совершенно отличных друг от друга, но все они являются частицей, можно даже сказать — выжимкой, всего творчества автора. В минимальных дозах даётся весь тот материал, который Лондон привнёс в мир литературы, и что готовился дополнительно внести за оставшиеся годы, неумолимо готовые прерваться в самом ближайшем будущем. Где-то читатель будет поражён масштабом жестокости на пороге способности выжить, где-то совершит исторический экскурс, где-то поучаствует в жарких схватках, а где-то будет решать вопросы человечности, где-то продираться сквозь малопонятный сумбур. В двух сборниках можно почерпнуть для себя все чувства — от гнева и бесконечной скорби до радости за смекалку находчивых людей, либо безмерное простое человеческое счастье.
Вот простой перечень всех рассказов: Рождённая в ночи, Кто-то в ином мире, Горсти костяшек, Убить человека, Под палубным тентом, Крылатый шантаж, Польза сомнений, Безумие Джона Харнеда, Война, Мексиканец, Когда боги смеются, Отступник, Безнравственная женщина, Только мясо, Он их создал, Ходя, Держи на запад, Semper Idem, Нос короля, Френсис Спейт, Любопытный отрывок, Кусок мяса. Каждый рассказ невозможно проанализировать отдельно, поскольку это займёт слишком много места и читательского времени, поэтому предлагаю их сгруппировать — и уже в таком виде смотреть.
1. Сумбур в чистом виде: Рождённая в ночи, Крылатый шантаж, Война, Когда боги смеются, Отступник. В текст данных рассказов можно вчитываться бесконечно, только это ничего не даст. Лучше пытаться понять заключительные абзацы, в которых Лондон хотел донести до читателя какую-то мораль. Понятно, что взгляд на войну глазами рядового — это достаточно тяжелый для восприятия процесс. А вот понять причины поступка отступника гораздо труднее, нежели что-то подобное пытался представить Герман Мелвилл в «Писце Бартлби» — тут по сути тот же самый подбор желания понимать мир под своим углом, только Лондон хоть как-то объясняет мотивы, сводя это всё к излишней трате энергии на однотипные действия, вследствие чего у человека случается помрачение сознания. Если бы не сумбурное повествование, то «Отступник» мог смело войти во вселенную Железной пяты.
2. Железная пята. В представлениях Джека Лондона — в будущем мир будет находится в состоянии конфронтации двух слоёв населения: рабочих и капиталистов. По представлениям писателя, рабочим удастся обуздать жестокий нрав взявших власть в свои руки капиталистов, но до этого момента человечество ожидает семь веков страданий. Помимо вышеозначенного «Отступника», в эту группу можно отнести ещё один рассказ — «Любопытный отрывок». Читатель мало что знает о мире Железной пяты, если не брать в расчёт одноимённый роман Джека Лондона, где повествование складывается из анализа найденной утерянной рукописи, касательно событий начала XX века, положивших начало борьбе двух классов. «Любопытный отрывок» становится чем-то подобным, только он касается периода наибольшего закабаления рабочих, доведённых до состояния рабов, не имеющих даже права сказать что-то от себя, особенно поделиться с хозяином о жестоком обращении с ними надсмотрщиков. Всё это было и в царской России, где законодательно запретили крепостным жаловаться на помещиков.
3. Превосходство белой тевтонской и англо-саксонской рас над всеми остальными. Многих коробит, когда имя Джека Лондона ставят с расизмом на одну полку. Только от правды уйти невозможно, а доступные для чтения книги дадут читателю возможность разрушить все розовые представления о якобы «писателе для детей». В эту группу стоит отнести следующие рассказы: Кто-то в ином мире, Горсти костяшек, Ходя. Если первые два рассказа — это превозношение белой расы в чистом виде, где дополнительно присутствуют элементы потайного скрытого начала, вроде доктора Джекила и мистера Хайда, то есть — суть допельгангера, выраженная в наличии зачатков стержня силы, способного вырваться наружу, чтобы показать былое величие белого человека; то Ходя (ударение на первый слог) — это взаимоотношение белых людей к китайцам на Таити — рассказ обладает такой поразительной силой, отчего впечатлительный человек обязательно прольёт слезу, осознавая глупость мнительности одних, наложенную на отрицание обязанности познавать чужую культуру, считая себя венцом эволюции.
4. Море. Корабль в океане — это отдельное государство со своими порядками. Трудно отделить превосходство белой расы от морской тематики, поскольку они обе пересекаются. Взять опять же «Горсти костяшек». Помимо этого рассказа, есть ещё два: Держи на запад и Френсис Спейт. Если «Держи на запад» — это отражение главного негласного закона для капитана, пересекающего мыс Горн с востока на запад, преодолевая бурные ветры и превосходя коварную стихию. Если упадёт человек за борт, то за ним уже никто и никогда не вернётся, ведь надо держать на запад, пытаясь спасти экипаж и сам корабль. Любимая тема бунта противоречий, сталкивая человека со звериным началом — всё это больно ударит по мировосприятию читателя. А вот «Френсис Спейт» — это один из лучших рассказов сборника, превосходящий по накалу любое произведение Стивена Кинга, когда не используя ничего мистического, а сталкивая читателя с реальностью терпящего бедствия корабля, Джек Лондон заставляет застывать кровь в жилах, больно ударяя по осязанию и вызывая чувство тошноты с возможностью упасть в обморок. Что-то подобное можно встретить и в «Сёгуне» Джеймса Клавелла, но ведь перед читателем не ориентальные порядки, а нравы обыкновенных людей европейского склада ума, чья жизнь зависит от поступления еды в организм, пока есть возможность хоть как-то повлиять на своё выживание. Съесть человека… это жестокое испытание для экипажа корабля.
5. Бокс. Читатель может быть знаком с героями «Лунной долины» и «Игры», где их основным источником заработка был бокс. Джек Лондон часто обращается к теме этого вида спорта. Вот и в этом сборнике есть два рассказа: Мексиканец и Кусок мяса. Оба произведения примечательны сами по себе и заслуживают отдельного упоминания. Лондон очень много внимания уделяет поединкам, стараясь донести до читателей все чувства борющихся людей. Если Мексиканец — это молодой парень, чьей основной задачей является поиск средств на красную революцию мексиканцев, стремящихся оторвать себе кусок побольше; то Кусок мяса — это мысли старого боксёра, чей выход на ринг является единственным способом заработать на еду себе и своей семье, когда очередной проходной бой становится сборищем всего того, чем человек жил до этого, как он строил свою карьеру и как её закончил, что во многом подтверждает цикличность жизненных процессов, когда молодость уничтожает старость, пользуясь не мудростью, а большей способностью молодого организма терпеть лишения, получая заряд бодрости от кратких секунд покоя.
6. Странные создания — женщины. В личной жизни Джеку Лондону не везло: когда он кого-то любил, то никогда не имел взаимного чувства. Может именно поэтому ранее восхищение женским полом позже сменяется в творчестве писателя отчуждённостью. Лондон открыто говорит о женщинах не с самых выгодных позиций, сравнивая их с созданиями, ищущими выгоду для потехи своей души. Наиболее яркий рассказ «Под палубным тентом» становится ответом на вопрос — бывают ли женщины свиньями. Казалось бы, женщины бывают разными, но свиньями их назвать нельзя. Лондон приводит вполне правдоподобную историю о женском кокетстве, что приведёт к печальном итогу ветреного отношения к жизни. В противовес выступает рассказ в духе голливудских фильмов «Убить человека», когда в ходе долгой беседы убийцы и жертвы, выясняется, что женщина не может своими руками убить человека, предоставляя это право другим. Совсем уж делает женщин слабыми созданиями рассказ «Безнравственная женщина», являющийся скорее чем-то общим из нравов XIX века, когда поцеловав, должен обязательно жениться.
7. Восток: Ходя и Нос короля. Немного позже Джек Лондон покажет свою начитанность, предложив читателю подобие путешествий во времени, благодаря «Смирительной рубашке», а пока писатель предлагает ознакомиться с жизнь востока. Если «Ходя» уже знаком читающему этот текст, то «Нос короля» — это частица истории Кореи, где проявляется характер афериста в преступнике, получившего шанс заработать денег за выплату требуемой суммы для освобождения. Получилась скорее сказка о соблюдении конфуцианских канонов.
Отдельно стоят оставшиеся четыре рассказа, тоже представляющие интерес.
Наиболее примечательным стоит считать «Безумство Джона Харнеда» про человека, что впервые попал на корриду. Повествование наполнено накалом и поразит читателя концовкой. Действительно, убийство обречённых ослабленных быков на арене группой людей — такое совсем не по вкусу человеку, что привык убивать людей на войне и в ходе мелких стычек за жизнь. А осознать факт убийства старой лошади — ещё труднее. Всё превращается в фарс, где безумство приходит, не спрашивая разрешения.
«Польза сомнений» — это попытка отстоять свои права, когда ты не можешь оправдаться перед судом. Остаётся проглотить обиду да найти самый лучший способ кому-нибудь отомстить тем же самым образом. И самое главное — полученный опыт можно обратить против своих же обидчиков.
«Только мясо» и «Semper Idem» закрывают краткий обзор сборников. В первом два лица без определённого места жительства находят богатство и начинают его делить, показывая тот единственный способ, к которому прибегал человек всю свою историю. А вот второй рассказ — это история о самоубийце, решившем свети счёты с жизнью. и докторе, спасающем безнадёжных пациентов, предлагая им в следующий раз совершать задуманное дело с полной самоотдачей.
Подходя со скепсисом, получишь удовольствие.
Автор: Константин Трунин
» Читать далее