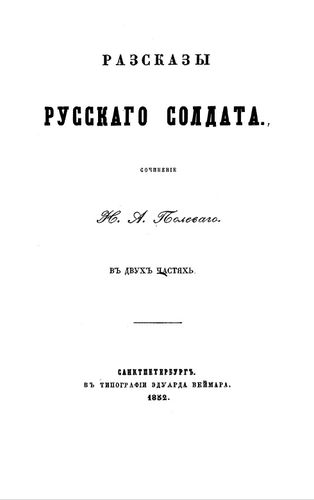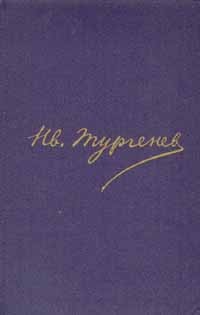Александр Яшин «Алёна Фомина» (1944-49)

Отчего бы, братцы, не писать стихи? Вот поёт душа, начинаешь ты писать. Пусть по качеству они плохи, да не станут осуждать. Тему жизненную найти надо для стихов, и приступай к написанию. Покажи за пример, на что ради этого пойти был готов. Найди друзей для чтения за компанию. И не беда, коли в чём-то есть заблуждение, лишь бы строчка оставалась верна. Отпустишь после ты своё творение, сам притом понимая, сколь рифма скверна. Пиши о важном! О важном пиши! Обсуди во строках историю партии. Не громко так, незаметно в тиши. Получишь на успех ты гарантии. Вот пример вам Александра Яшина — журналиста, прозаика, поэта. От поэмы его пускай голова обескуражена, но получил ведь он Сталинскую премию за это.
Алёна Фомина — героиня творения. Девицей справной была. Слушай её подряд измышления, зачем и куда её партия вела. Куда вела партия народ Союза, решения принимала какие, сколь тянула на плечах своих груза, проблемы решая мирские. Всем укажет место товарка Фомина, и войне придаст правильный в направлении ход, ведь в чём бывать могла бы вина, того и судьба быть наказанным ждёт. А уж коли кто на колхоз скажет криво, ему некуда станет бежать, припомнит ему грехи все партия живо, и подскажет, как закон надо чтить-уважать.
Но читатель иное себе присмотрит в сюжете диво. Вот возвращаются солдаты с военных фронтов. Хотят они праздника, покоя и пива, не принимая никаких в возражениях слов. Подвиг свершили, медали на грудь, орден вперёд себя понесут. Говорят, мол, любезен побудь, я тебя поважнее, знаешь ли, тут. Эка важная птица, ему скажет Алёна, поганая та видать заграница, коль бравада сталась хвалёна; ты медали свои не кажи, ты покажи в себе человека, иди пока полежи, дитя не нашего века. И что ей на то противопоставить смогли бы? Ожидали покоя и пива. Как им пойти против Алёны, этакой глыбы? Но поймут, как ведут себя некрасиво. Пусть читатель мотает на ус, так со всякой войны могут вернуться с медалью, с дозволенья принимая на плечи искус, пренебрегать желая моралью. Нет, скажет на такое Алёна, за заслуги боевые в ином месте почёт, не потерпит она в унижение тона, пусть боец славный боронить поле идёт. А коли ранен, не дело горькую пить, читай трудящимся тогда газету, всё равно должен полезным обществу продолжать быть. Поверим, пожалуй, мы Яшину-поэту.
Такая поэма, простая-незамысловатая, от души написана, местами на мысли богатая, на злобу дней тех нанизана. Пусть читать тяжело, как примерно эти строчки, пробудил значит автор в верном направлении путь, подогнём мы слегка кое-где уголочки, помечая так нужной нам показавшейся суть. Попробуем сами, нечто в духе его изложить, от души постараться всем нужно, даже так — неказисто — сплести поэтически нить, выйдет тяжело и натужно. Не беда, прилагайте старание. Осуждать легче, нет спору. Уделите тексту внимание, обретите немного опору.
Что же, Яшина не только хвалили. Он и сам признавал своеобразность манеры. Читатель скажет: не удивили, не из такой смастерю вам фанеры. Да время упущено, смастерить уже не получится никак. Чествовать поэтов давно перестали. Быть может это намёком явленный знак, чтобы время на такое больше не теряли. Не будем о грустном, разговор был о другом, не о слоге, конечно, искусном… Но и такое мы где ныне прочтём?
Автор: Константин Трунин