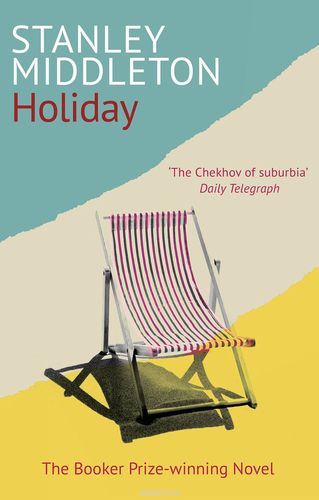Кадзуо Исигуро «Остаток дня» (1989)
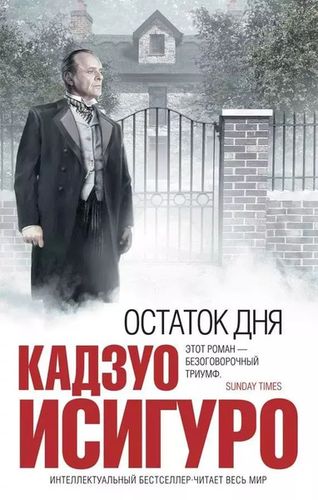
Величие нации определяется самосознанием отдельных её представителей, готовых приносить себя в жертву во имя общего благополучия. Это не слова о построении коммунистического общества, где каждый будет вносить соразмерный вклад ради обретения всеми единого счастья. Разговор пойдёт о представленном вниманию читателя мировоззрении от Кадзуо Исигуро. Читателю давалось понимание о человеке, готовом жить идеалами других, находясь в вечном услужении. Может показаться, такой человек обязательно должен страдать от комплексов прислуживающего другим. Но Исигуро писал о том, кто ставил личные интересы на должное быть им присущим место. Кадзуо сообщал, насколько каждый способен вносить тот самый соразмерный вклад. То есть не всем полагается занимать лидирующее положение в обществе, кто-то им должен прислуживать, уже тем освобождая от выполнения рутинных бытовых обязанностей. Исигуро словно сообщал читателю, почему мир англо-саксов достиг занятого ими положения. Именно благодаря самоотверженности людей. Однако, читатель заметит наметившиеся перемены в жизненном укладе, когда мощь британского владычества начнёт сходить на нет. Что при этом останется делать тем, кто служил величию империи? Читатель должен с этим определиться самостоятельно.
Можно задаться вопросом. Почему представленный вниманию дворецкий столь уверен в убеждениях? Кадзуо даёт объяснение, отправив его на далёкое расстояние в автомобильное путешествие. Этот дворецкий прожил всю жизнь на одном месте, толком не имея представления, что находится за стенами поместья. Не имея знаний о мире, он хвалит ему доступное. Для него нет ничего прекрасней английской природы. Он с той же уверенностью воспримет за лучшее всё британское. Просто он не имел иных примеров, и никогда не стремился о них узнать. Он был пропитан разговорами о величии империи, не способный помыслить иначе, нежели ему сообщалось. Да и не имело никакого значения, что происходило вне поместья. Он согласен был принять любое суждение за правду, если оно сулило выгоды для Англии. И был твёрдо уверен, для того нужно хорошо исполнять рутинные бытовые обязанности, благодаря чему власть британцев над мировыми процессами не ослабнет.
Читатель обязательно задумается, будто лакейство присуще некоторым людям с рождения. Иначе почему дворецкий станет рассуждать о важном значении своей профессии, будет хвалиться тем, насколько хорошо исполняет обязанности. Оправданы ли такие рассуждения? Только отчасти. Ведь читатель имеет представление об Англии прошлых веков как раз в подобном ключе. Что предстаёт перед глазами? Непомерная надменность британцев. Но как давно подобное стало заметным? Разве писал о таком Чарльз Диккенс? Или может Райдер Хаггард ставил англичан выше им позволительного? Скорее нужно искать истоки суждений недалеко от представлений Редьярда Киплинга, выпестовавшего джингоизм с самых первых произведений. С той поры тянется вереница распространившихся суждений, получивших развитие в «Остатке дня». Только у Кадзуо прежнее величие показывалось сходящим на нет. Читатель был обязан понять, сколь близок момент утраты британцами прав на распространение влияния в мире. Забегая немного вперёд можно сказать, Британская империя утратит свой статус спустя восемь лет после издания книги.
А как же личная жизнь дворецкого? — пожелает спросить читатель. Исигуро расскажет в том же духе. Если она имела значение для Британии, дворецкому обрести семью. Но сильные мира сего не так часто думали об им прислуживающих, как сами прислуживающие — о них. Или просто наступили такие времена, выразившиеся в окончательном вырождении прежних представлений. Мир в очередной раз менялся. А если кто думает, будто всё должно оставаться неизменным — пусть прочитает «Остаток дня» Кадзуо Исигуро. Меняется всё! В том числе и представление о должном быть.
Автор: Константин Трунин