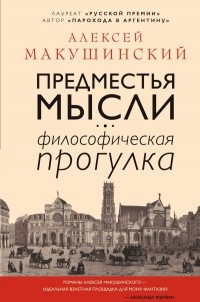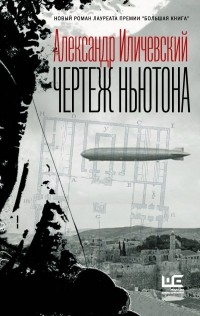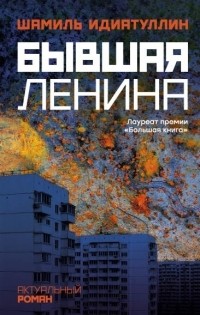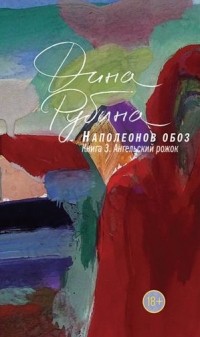Алексей Поляринов «Риф» (2020)

Что же, скажем Поляринову прощай. Где-то поговаривают, его имя возносили на литературный Олимп русской прозы. Видимо, действительно невысокая гора. Занести его туда было не так сложно. Толком не имея за плечами ничего, он шёл лёгкой поступью по пологому склону, взбираясь без усилий. А потом перед ним возникла отвесная скала, по которой он продолжил восхождение. Забравшись, он понял, что восходил на Олимп русской прозы, а оказался на вершине других гор. Снег ли его ослепил, либо по иной причине, но после издания «Рифа» Алексей продолжил жить в ином пространстве. Поэтому нужно задать себе при чтении вопрос: о какой действительности Поляринов взялся рассказывать, если сам не сумел разобраться в жизни?
«Все мы каннибалы» — гласит эпиграф произведения. В нём сообщается о болезни куру, свойственной аборигенам Новой Гвинеи. Передаётся она, согласно эпиграфу, из-за поедания человеческого мозга. Будем думать, Алексей мягко намекнул читателю на каннибализм иного толка, когда человеческое самосознание пожирается окружающими его источниками информации. Что на этот счёт подумал сам читатель? Если чей мозг и пригоден к употреблению, то точно не его. Быть может это мозг писателя излишне мягок, слишком податлив и восприимчив, отчего не в силах отличить нужное от полезного, воспринимая всё через необходимость быть угодным лично ему… и без возражений. Ежели так, можно переходить к содержанию «Рифа».
Роман состоит из трёх историй. Нет надобности разбирать каждую в отдельности, автор рассказывает их, перемешав друг с другом. Вот город Сулим, там откопали линзу изо льда, появились сюрреалистические ожившие ящерки. Улицы в том городе названы в честь танковых бригад. Вот Америка, где изучают аллигаторов. Вот про сектантов, отказывающихся от благ цивилизации (вроде электричества). Что-то про американских антропологов, опыты над жителями Микронезии. Внезапно бунт и расстрел в Сулиме. Что, к чему, зачем?
Разбираться и вникать во всё это читатель не станет, поскольку нет в том нужды. Если основательно засиживаться над каждой книгой, будешь ими без меры пропитан и утратишь связь с реальностью. Считай, по собственной воле окажешься в числе книжных сектантов, не желающих продолжения развития. Другое дело, ежели ты берёшься изучать творческий потенциал, культурную составляющую, собираешься писать крупные исследования. Но кому… Кому будут нужны ваши исследования по ничем непримечательным произведениям? Будет достаточно ознакомиться с предисловием к вашему труду, чтобы его далее не читать. Или вы собрались концентрироваться на творчестве Поляринова? Да есть ли там на чём концентрироваться?
Всё пройдёт. Схлынет и это. Пока рано говорить о месте Алексея в литературе XXI века. Его заслуги: победа на читательском голосовании в премии «Новая словесность» и читательское же внимание на премии «Большая книга». За дело ли? А может благодаря имени на слуху? Как знать. Вкус читателя переменчив: при жизни ценят, забывая сразу после смерти. Не боится ли такого варианта Поляринов? Если мозг не совсем поражён чуждым источником информации, излечение вполне вероятно. Иначе грозит энцефалопатия и потеря идентичности.
Оставим «Риф» в стороне. Это проходное произведение. Назовём — продолжением расписывания ручки. Автор пытается созидать, создавая творения в пустоту. Пусть он возмутится данным словам, попытается найти оправдание. И он его обязательно найдёт, и даже применит, но не будет понят, так как не дано нам понять человека с потерянной идентичностью на пороге энцефалопатии. Питаться продуктами его труда опасно!
Автор: Константин Трунин