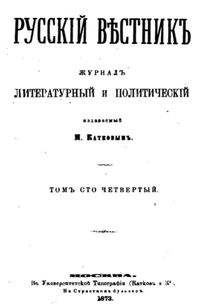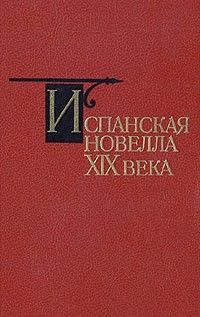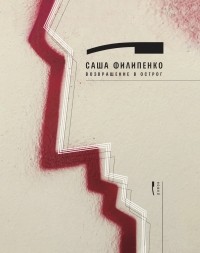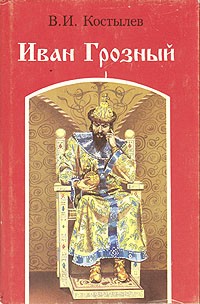Максим Горький «По Руси. Часть III» (1915-17)
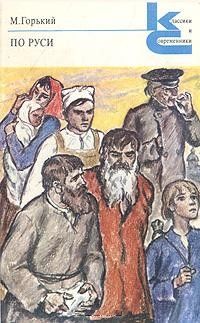
В какой-то момент Горький определился, что прежде написанным рассказам, которые объединяла идея странствий, нужно придать окончательный вид. Для этого он на протяжении трёх лет, начиная с 1915 года, писал короткие истории. Получилось это у него не очень хорошо, так как даже исследователи творчества не брались задумываться над содержанием и не искали свидетельств, к какому времени жизни автора их следует относить. Да и сам Горький, предлагая хронологию расположения рассказов в сборнике, не придерживался даты написания, считая, например, допустимым поместить рассказ от 1915 года на предпоследнее место. В целом, заключительная часть «По Руси» проходит у читателя перед глазами одним мгновением, не оставляя впечатлений.
Итак, после перерыва, в ноябре 1915 года в газете «Борисоглебское эхо» публикуется рассказ «Счастье», размером набиравший порядка полутора тысяч слов. В декабре, уже в журнале «Летопись», Горький публикует четыре очерка подряд под заголовком «Воспоминания»: «Светло-серое с голубым», «Книга», «Как сложили песню» и «Птичий грех». Читатель узнавал автора, представлявшегося в одном из очерков Иегудиилом, прекрасно помня об одном из псевдонимов Горького — Иегудиил Хламида. Узнавал и про бытность писателя в качестве весовщика на железнодорожной станции и о пребывании в Арзамасе.
Рассказ «Герой» из декабрьского выпуска газеты «Русское слово» печатался в виде части повести «В людях», но так и остался в качестве самостоятельного произведения, на тот момент не имея названия. Тогда же в газете «Киевская мысль» вышел рассказ «На Чангуле», размером более пяти тысяч слов.
Следующий рассказ («Клоун») снова вышел в «Киевской мысли» — в февральском выпуске. Горький рассказывал о том, как клоун решил помочь женщине. Там же и в том же месяце опубликован рассказ «Весельчак». Как выяснили исследователи творчества, этот рассказ сложен на основе сохранившихся остатков рукописи двадцатилетней давности. Тогда Горький не сумел найти издания, согласившегося бы на публикацию. Сам рассказ определялся Горьким в качестве закрывающего сборник «По Руси».
В апрельском выпуске «Киевской мысли» опубликован рассказ «Гривенник». После чего до сентября не последовало ни одной публикации, когда случилось быть написанным циклу очерков про встречи под заголовком «Воспоминания», публиковавшиеся, уже по доброй памяти, всё в той же газете «Киевская мысль». Второго сентября публикуется «Вечер у Шамова», примечательный описанием случая, когда Горький случайно разрядил в себя пистолет. Через день был «Вечер у Панашкина», опубликованный в печати двадцать восьмого числа. «Вечер у Сухомяткина» завершал цикл встреч, был опубликован в октябрьском выпуске.
В декабре Горький опубликовал рассказ «Ералаш» в газете «Русское слово». Произведение примечательно спором на религиозную тему. И уже в январском выпуске за 1917 год в журнале «Летопись» вышел рассказ «Страсти-мордасти». Ещё один рассказ опубликован в майском выпуске «Русского слова» («Тимка», тогда под заголовком «Случай»). Рассказ «Лёгкий человек» публиковался в «Летописи» с мая по июнь, Горький считал его за набросок к повести «Сын».
Последним рассказом, по хронологии написания, стало повествование «Зрители», опубликованное в октябрьских выпусках газеты «Новая жизнь», где сообщалось о похоронах генерала.
Напоследок нужно сказать о сборнике «По Руси» следующее. Первые одиннадцать рассказов Горький опубликовал в девятнадцатом томе собрания сочинений «Жизнь и знание» за 1915 год, следующие восемнадцать издал в качестве сборника «Ералаш и другие рассказы» за 1918 год. И только в 1923 году все рассказы были объединены в составе единого сборника. Интересующийся читатель может его рассматривать в качестве источника по сведениям о жизни писателя.
Автор: Константин Трунин