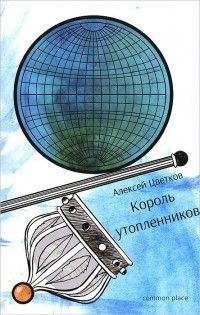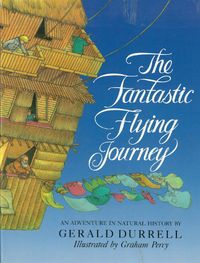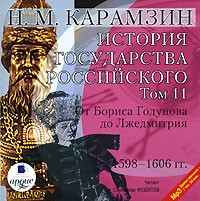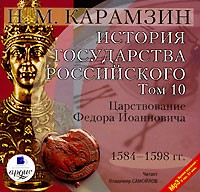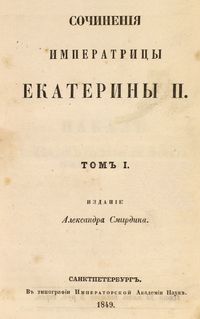Анатолий Караваев «Лыткин и река времени» (2017)
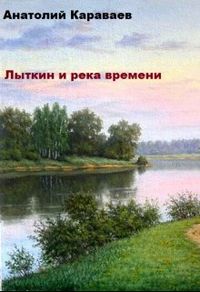
Река на всём протяжении остаётся рекой. Откуда не взирай на её течение — перемен не увидишь. Художественное произведение, особенно цельное, требует внимания от начала до конца, иначе представая набором невнятных сцен, показанных без начала и не имея определённых целей. Бывает и так, что кое-как начав, автор продолжает тянуть произведение дальше, не имея представлений, зачем это ему понадобилось. Так произведение становится лоскутным, оно лишено смысловой нагрузки и не позволяет плыть по течению сюжета. Приходится жалеть читателя, решившего понять, к чему автор подведёт повествование. В случае Караваева необходимо сказать следующее: пропустив поворот, лучше было вернуться, а не плутать в поисках альтернативного пути.
Идея смешать настоящее с прошлым — допустима в качестве возможного быть. Особенно при объяснении, почему человек в форме сотрудника НКВД исполняет обязанности майора юстиции, когда на календаре 2010 год. То позволено ему за особые заслуги, учитывая стопроцентную раскрываемость. Сыграла значение и родственная связь с верхами. Для оправдания странных особенностей происходящего всё нужное кажется представленным. Перед читателем специалист высокого класса с незначительным расстройством мировосприятия, способный разрешить любую сложную ситуацию.
Такому персонажу надо и дело поручить сложное. Банальное убийство вполне подойдёт, особенно такое, где найдётся место обилию совпадений, будто бы описанное некогда уже происходило, повторяясь снова. Люди с теми же фамилиями жили в прошлом и занимались точно тем же, чем им предстоит скрашивать досуг в отдалённые от них дни другим людям, поразительно на них похожим. Есть о чём поразмышлять и подивиться происходящему. Однако, Караваев именно этот поворот и пропустил, пустив главного героя повествования в дебри прочих занятий.
Вместо расследования убийства, читатель начнёт внимать процессу съёмки кинематографического продукта, будет следить за развитием любовных чувств и послушает о всяких рассуждениях действующих лиц. Вмиг забывается убийство, главный герой выпадает из поля зрения, пока Анатолий станет описывать всё ему угодное, лишь бы отдалиться от сообщённой на первых страницах информации.
Всё нужное сказано. Остаётся дополнить объём текста, подобно Караваеву. Допустимо подумать о жанровой принадлежности произведения. С первого взгляда — типичная беллетристика. Автор посчитал иначе, причислив к фэнтези, к тому же ещё и юмористическому. В том есть смысл, объясняющий странности поведения действующих лиц, но до юмора дело так и не дошло, скорее дав представление об оправдании абсурдности описанных событий. Если допустить существование Лыткина в форме сотрудника НКВД получается, то халатное отношение к исполнению обязанностей — нет. Может дело в невнимательности читателя, чьи глаза закрылись на понимание происходящего, отошедшего от изначально заданной автором линии.
Попытка показать, как в настоящем повторяется прошлое, провалилась. Анатолий решил отразить буквально минувшее, дав ему новую жизнь. Поэтому не приходится удивляться, как в XXI веке оживают события едва ли не столетней давности. Сам Лыткин — воплощение канувших в небытие лет, своим видом и мышлением — сотрудник не полиции, а НКВД. Прочие к нему подтянутся за счёт актёрского мастерства, оказавшиеся в одном месте, словно судьба (в лице автора) решила подшутить над ними.
Найти больше слов не получается. Редко такое случается, когда художественное произведение не пробуждает мыслей и эмоций, хорошо или плохо оно написано. Остаётся винить тот самый поворот, проигнорированный Караваевым. Может оказаться и так, что причина кроется в желании увидеть определённую историю, вместо чего пришлось стать свидетелем рассказа о совершенно другом. Потому и не вышло, к сожалению.
Автор: Константин Трунин