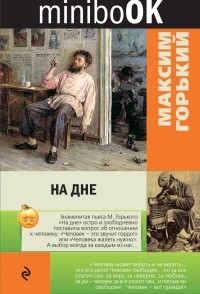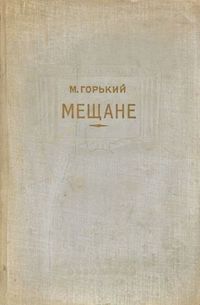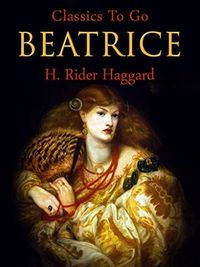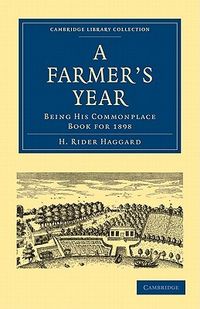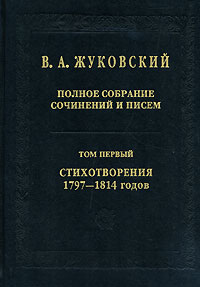Максим Горький «Варвары» (1905)

Русские авторы XIX века любили переносить место действия в некий город, называя его для удобства N или NN. Чаще тот город оказывался из множественных населённых пунктов России, не столь уж отличимых друг от друга. Дабы не задевать ничьих чувств, созидалась определённая территория, куда можно было переносить события, обычно правдивые. Таким же образом поступил Горький, дав представление о заштатном городе, который продолжал жить присущей ему размеренной жизнью, чьё население нисколько не соотносило происходящее в стране с их как-то к тому приближающим. Пусть в столице ходят стены от народных волнений, того не чувствуется в провинции. Провинция даже не поймёт, ежели нечто всё-таки случится. И в обратном случае — проблемы провинции никак не способны задеть чувства того же столичного жителя.
Как предстоит судить далее? Горький внёс очередную порцию разлада в жизнь измышленных им литературных персонажей. Был взят среднестатистический русский город, куда приехали люди извне, стремящиеся видеть иные порядки, более для них привычные. На этой почве Горький только отмечался в качестве описывающего особенное явление для самосознания русского человека, тогда как не только литература России, но и всего мира строится на борьбе из противоречий, возникающих в переломные моменты неприятия до того бывшего чуждым. Веком ранее активно высмеивалась любовь ко всему французскому. И тогда всякий мог оказаться варваром — деревней — коли не знал языка французов. Годы перевели прежние непонимания в иную плоскость. Теперь можно измыслить всякое, в том числе и продолжающее оставаться явным неприятие стремления к перемене в сложившемся укладе.
Скажи точно, расставь точки в нужных местах, преподнеси действие, чтобы зритель сумел прочувствовать: следовало наказать Горькому. Но кто ему указ? Понимая, насколько тяжело воздействовать на человека, он покажет едва ли не единственное разрешение угнетающих человека страстей. Решение то не самое лучшее, скорее показывающее скудность человеческой способности совладать со складывающимися против него обстоятельствами. И скажет это Горький так, отчего зритель продолжит не до конца осознавать, к чему его пытались подвести. Конечно, вооружившись спасительным средством в виде мыслей прежних поколений зрителей и читателей, нынешний читатель вынесет суждение, основанное сугубо на их восприятии. А что он мог сказать сам? Практически ничего, ведь всё исследовано до него — ему лишь молча соглашаться.
И выходило так, что требовалось определиться, кого считать варварами. За оных можно принять людей извне, поскольку они вносят разлад в до них сформировавшуюся среду, либо людей, живущих в данной местности не первый год, своим существованием доказывающих, насколько сложно их сдвинуть с пути в бездну. На самом деле, никто из них варваром не является. Всё зависит от умения анализировать действительность. Ведь кто говорит, что перемены случаются к лучшему? Ещё ни одна прогрессивная мысль не приводила человеческое общество к счастью, предварительно не уничтожив тех, кто мешал установлению новодела. Но и достигнутое счастье оказывалось мнимым, приносящим разочарование, поскольку постоянно появляются идеи, как добиться гораздо лучшего. К чему это приводит? Только к приумножению горя.
Что же теперь делать? Как быть русскому народу? Происходящее в стране всё больше пугало. Сложный 1905 год обещал нечто небывалое — бывшие крепостные получали возможность становиться господами. Хоть Горький о том не стал говорить, но становилось понятно — реформы Александра II способствовали изменению самосознания русского человека. Ежели Тургенев видел, насколько ничего не меняется, оставаясь в рамках крепостного права, то уже Салтыков-Щедрин, Лесков и Достоевский смели рассуждать, оставшись под впечатлением от преступной деятельности студенческих политических организаций. Теперь и Горький задумывался о продолжающем развиваться процессе. Вот и размышляй после этого: давать ли волю правдолюбам, чья правда им же и снимет первыми голову с плеч.
Автор: Константин Трунин