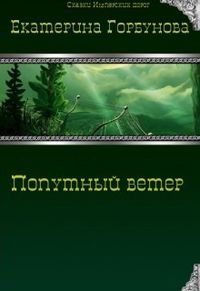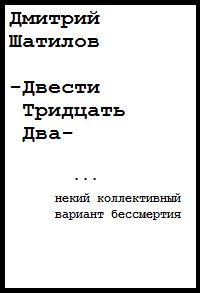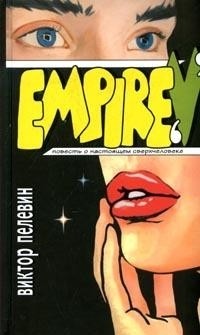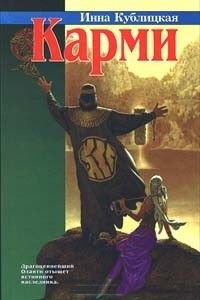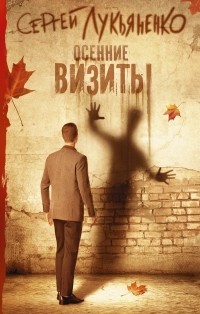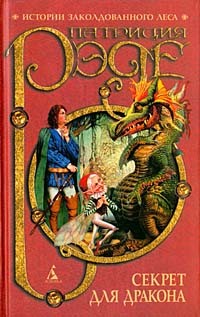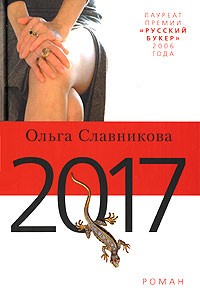Дмитрий Шишкин «Восстание» (2014)
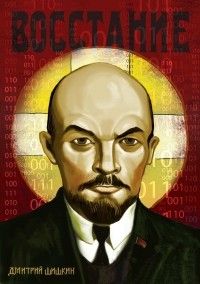
Социальное напряжение порождает невообразимое извращение представлений о прошлом. Но есть ли такое напряжение на постсоветском пространстве? Людям стало безразлично их будущее, поэтому возрождение былого воспринимается ещё одним предметом для обсуждения ни о чём. Что даст, например, возвращение к жизни Ленина? Разве это гарантирует приход к власти коммунистической партии? Или люди вмиг пересмотрят мировоззрение, вновь появятся жаждущие работать на пользу государства, забыв о личных интересах? Отнюдь. Воскресший Ленин станет рекламной площадкой, способной привлечь деньги. И куда будут потрачены эти средства? Они разойдутся, словно их не было.
За два года до издания «Восстания», в Германии вышла книга Тимура Вермеша «Он снова здесь». Для немецкого восприятия реальности фигура Гитлера сравни индексу народного терпения. Когда действующая власть заиграется в политику, тогда придётся вспомнить о былом. Не согласится немецкая нация на повторение катастрофических изменений — в её среде обязательно найдётся человек, способный призвать к возрождению попранной гордости. Он покажет людям, что пора спасать государство. А как поступил Дмитрий Шишкин с исторической фигурой Ленина?
Для Дмитрия это стало развлечением. Нет тех катастроф в России, которые сможет разрешить один из основателей страны Советов. Забавы ради: с целью восполнения финансовой несостоятельности, два студента пошли на решительный шаг, проведя комплекс мер, после чего люди поверили, будто Ленин воскрес. Небывалых масштабов мистификация адекватными людьми воспринималась в качестве газетной утки. Так оно и было. И в этом сильная сторона Шишкина.
Дмитрий из журналистов, имеющих веское слово в средствах массовой информации. Ему знаком процесс формирования новостей, привлекающих внимание обывателей. Он верно подметил, что Ленин не скоро перестанет волновать умы. Почему бы не написать о фигуре советского вождя в рамках сегодняшних реалий? Но, опять же, ниспровержением чего будет заниматься Ленин? Придумать то можно, если появится к тому желание. Шишкин такой цели не ставил.
Трудно понять мотивацию людей, с радостью воспринявших газетную утку. Общество стало преображаться. Все действительно поверили сведениям о воскресшем Ленине. Дмитрий превратил описываемое им на страницах в фарс. Мало ли читатель видел ботаников и гиков, раскрепощающих себя на сокрытии комплексов путём реализации масштабного проекта. Но почему это должно интересовать окружающих?
Стоит напомнить, что Дмитрий к тому же и философ по образованию. Посему неудивительно было увидеть, как Ленин в самом деле ожил. Для объяснения доказательная возможность этого базировалась на трудах Николая Фёдорова, футуролога от религии и науки, считавшего возможным воскресить всех умерших людей. Особого значения на сюжет это не окажет. Шишкину требовалось привнести в повествование необычный ход, им прекрасно продемонстрированный. Только мало вернуть к жизни умершее тело, нужно найти способ для восстановления организма.
Оставим Ленина в покое. Кого не возрождай, на данный момент это будет лишь источником для привлечения денежных средств. Более ничего не интересует человека начала XXI века. Нет и социального напряжения, требующего разрешения. На постсоветском пространстве ничего существенно не поменялось, ежели не брать для рассмотрения несколько государств, исторически не знавших пребывания в согласии с собой и соседними государствами. Главное сейчас — набить карман самостоятельно или ждать помощи от находящихся у власти. Сверху деньги не падают, потому народ идёт на авантюры, желая более лучшей жизни. Об этом прежде всего и рассказал Шишкин, тогда как прочее — намёк.
Буржуазия всё-таки победила. Узнав об этом, Ленин должен отказаться жить.
Автор: Константин Трунин