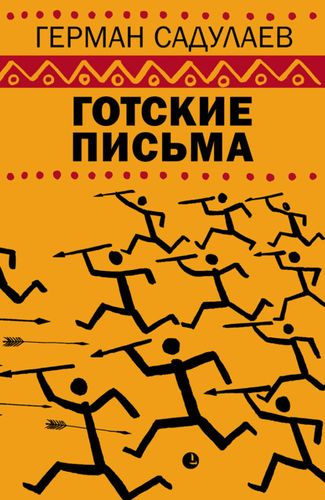Антонина Коптяева «Иван Иванович» (1949)

Коптяевой близок по духу Дальний Восток, поэтому она снова отправилась туда на поиски литературных сюжетов. Поехала, можно сказать, сама: показать стремление молодой девушки к обретению умения писать нужные обществу статьи в периодические издания. И рассказывать она будет о быте шахтёров, потом может приоткроет для советского читателя быт якутов и эвенков, обязательно должная поведать и про быт врачей. Всему этому обязательно должно найтись место, если не в данной книге, то в последующих. А пока читатель более должен был внимать медицинской составляющей, поскольку Иван Иванович — местный доктор.
Что же делает Иван Иванович? Доблестно трудится, прилагая те умения, которыми располагает. Со стороны читателю может показаться, Коптяева создаёт идеализированную картину, далёкую от должной тогда быть в Советском Союзе. Или всё вокруг Ивана Ивановича имело удручающий характер, вследствие чего он исходил из имеющегося. Например, оперировал живот беременной без какой-либо подготовки, делал операции на мозге. Пусть не всегда у него выходило удачно, причина для объяснения обязательно находилась: то свет отключили, помощник не так выполнил указания, либо процесс зашёл излишне далеко. Иван Иванович не думал расстраиваться, считая, что в медицине, каждый может найти себе применение.
Другая проблема, поставленная Коптяевой, выражалась в отсутствии интереса государства к семейным ценностям. Антонина и прежде писала про необходимость добиваться лучшего, только не в плане домашних забот, а лишь в желании наращивать объёмы производства. Почему человек должен полностью отдаваться трудовым достижениям, когда его внимания ждут родные? За успехами государственных строек не было принято замечать разрушенных семей. Пусть жёны не менее трудились, добивались признания и заслуживали похвалу от коллег, они всё-таки больше мужчин страдали от такого положения дел. То есть советский писатель мог написать про любовь на войне, в тылу или в мирное время, но кто из них показывал последующее развитие отношений, чаще приводившее к разрыву? Поэтому Коптяева описывала происходящее на страницах так, чтобы на это обратили внимание.
Ещё одна проблема, превалирование интересов мужчин над интересами женщин. Какое дело до, так скажем, «писанины», когда стоит задача по оздоровлению населения, остро нуждавшемся в квалифицированной медицинской помощи? Читатель волен возразить, что у Ивана Ивановича был реальный прототип, поднимавший на севере Дальнего Востока нейрохирургию, попутно помогая жившим там людям. Будь на его месте женщина, тогда Коптяева писала бы в ином тоне. Такое вполне можно допустить. Всё-таки советское общество воспринимается таким, где каждый имел равные возможности. Или просто каждый был обязан трудиться? Из-за чего равноправие начинает восприниматься далеко не так однозначно.
Коптяева сделала упор и на необходимости донести до читателя описание быта северных народов. Почему они оказались в столь неблагоприятных для них условиях? Каким образом люди решились откочевать на дальний север? Читатель поймёт очень просто. В силу сложившихся исторических процессов, по доброй воле или принудительно, народы были поставлены перед необходимостью переместиться в более спокойные места. Одна из причин — спасение от монгольских завоеваний. Но читатель, знакомый с историей тех мест, найдёт аргументы для возражения, вспомнив в том числе и Китай, плативший за спокойствие, практически никогда не воюя с северными народами. Только это никак не касается содержания.
Нужно упомянуть и факт присуждения за произведение Сталинской премии. Других литературных наград у Антонины Коптяевой не было, несмотря на активную писательскую деятельность и занятие в последующем высоких постов в литературных объединениях Советского Союза.
Автор: Константин Трунин