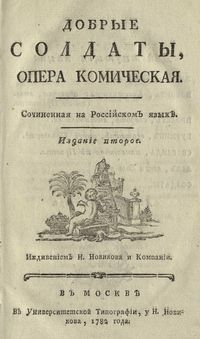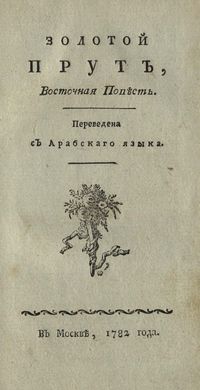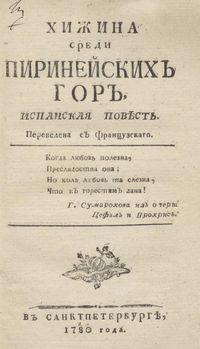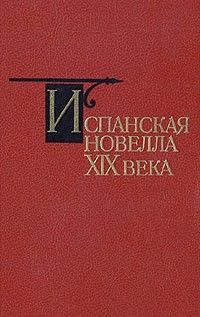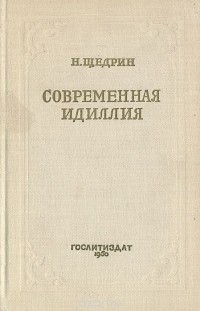Михаил Херасков «Утешение грешных», «Храм российского благоденствия» (XVIII век)
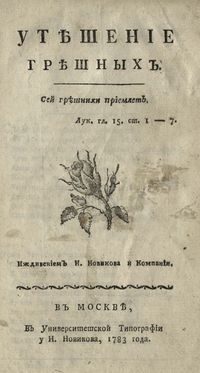
Нет религии, вроде христианства, где не приемлют воровства и хамства, где порицают за убийство людей, не допуская иных грешных затей. Но есть религия, христианством названо оно, где допускается это, где творимых людьми прегрешений полно. Отчего так? Как совместимы благая жизнь и грех? Как жить получается в строгости, не избегая утех? Ответ на то простой, всегда понятный, даёт он грешному стимул приятный: разрешается грешить без ограничений, покайся после во грехе — вот где христианства гений. Потому, как к святости человека не призывай, каких усилий к достижению блага не прилагай, ничего не сможешь от людей добиться, покуда исправляет грех молитва. Воруй на славу, убивай, недругов огнём испепеляй, потом о грехе своём скажи в исповедальне, и очистится душа от грешной тайны. Твёрдо можно знать, что даже дьявол волен сознаться в грехах, тогда и ему позволят жить в раю на небесах. К пониманию этого стремился Херасков читателя в «Утешении грешных» подвести, уроком мудрости стали его стихи.
Вспомните Иисуса, он первым начал грешных прощать, готовый каждому проход в рай позволять. Очисти душу словами, в грехе покайся, после ты чист, хоть грехам вновь предавайся. Если покаешься снова, будешь снова прощён, а после греши: путь для спасения души определён. Кого первым в рай пустил Иисус? Кто преодолел быть преступником искус, кто презрел себя, отказавшись от греха, такова о том человеке ходит молва. А если того преступника смерть не постигла в тот же день, он бы стал преступником снова, ибо остаётся нелюдем зверь. Потому от христианской веры спасения для человечества не жди, не к тому люди направляют стопы свои. Если после прощения греха человек сразу должен умереть, или его помещать до смерти во клеть, дабы знал человек, что за грех наказан при жизни должен быть он, а не просто служителем церкви пред лестницей Иакова станет прощён.
Оттого избалован человек, ибо Спаситель грешников приемлет, потому человек с радостью тому долгие годы и внемлет. Как не призывай церковь к жизни благой, она же породила смысл жизни простой, дозволяя грешить, после прощая, для расширения паствы так поступая. Теперь к церкви могли быть причастные худшие из людей, убивавшие многих по воле своей, ведшие неправедную жизнь, живя в удовольствие своё, твёрдо зная, простят священники за грехи, тем осуществляя Бога ремесло. И даже веры будь ты другой, но пожелаешь в раю для христиан оказаться, на смертном одре можешь с прошлым расстаться, тут же безгрешным отправившись на небеса, Спаситель приемлет тебя в раскаянье всегда.
От мыслей о вечном отвлечёмся, «Храм российского благоденствия» ещё Херасков сочинил, к заслугам Екатерины прикоснёмся, её гений над Портой воспарил. Победили русские турецких полчищ рой, били на земле и на море, утвердили право сильных за собой — мусульманам на горе. Блистали русские, славу на века стяжая, нещадно били врага, за обиды прошлого отомстив, писал о том Херасков оду, словами играя, ничего нового читателю не сообщив. Такая ода, она всегда о пустом, возносятся правители, чьи деяния равны делам античных героев, потому пишет Херасков для него о простом, не изменяя од создания устоев. Пока он восхвалял Екатерины успех, тем для собственной мысли облегчал дальнейший путь, да и не имели право не отразить в поэзии никто из тех, кто был поэтом, кому дозволялось талантом поэта блеснуть.
Автор: Константин Трунин