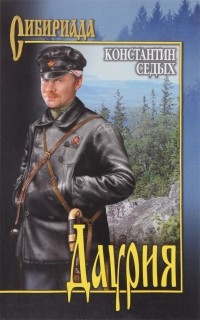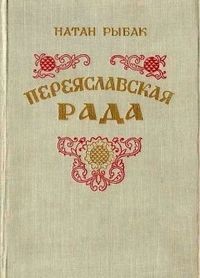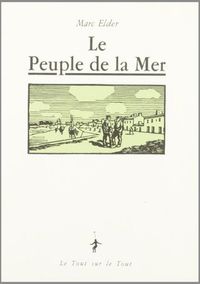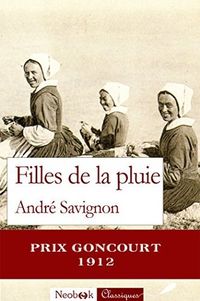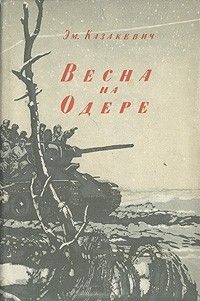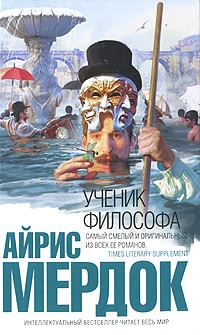Александр Грин — Рассказы 1925-27
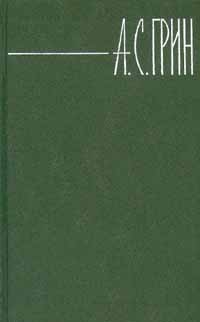
В 1925 году Грин написал пять рассказов, четыре из них опубликованы в журнале «Красная нива». В тринадцатом выпуске — рассказ «Победитель». В двадцать четвёртом — рассказ «Четырнадцать футов», в котором исследователи творчества нашли сходство с одним из рассказов Джека Лондона. В тридцать пятом выпуске — очерк «Золото и шахтёры». В сорок пятом — рассказ «Шесть спичек». Приходится говорить сухо, учитывая отсутствие в повествовании Грина привлекающей внимание черты. Исключением может быть лишь рассказ «Четырнадцать футов», раскрывавший обстоятельства отношения двух мужчин, бывших влюблёнными в одну женщину, как они решили выяснить, кто более её достоин. Финал у истории вышел крайне печальным.
В составе сборника «На облачном берегу» был опубликован рассказ «Серый автомобиль» — повествование, наполненное мистическими моментами. Грин старался заинтриговать, рассказывая историю будто бы задом-наперёд, тогда как события развивались линейно. Сперва главный герой смотрел фильм, увидел автомобиль, показавшийся ему знакомым, потом играл в карты, размышлял о значении джокера, после описание азартной игры, в результате чего получилось сорвать куш, где главной добычей оказался тот самый серый автомобиль из фильма. Всё это сопровождалось многочисленными рассуждениями и отступлениями.
В 1926 году Александр вновь ограничился пятью рассказами. В «Красной ниве» опубликовано два: «Брак Августа Эсборна» (тринадцатый выпуск) и «Змея» (сорок второй выпуск). В рассказе «Змея» живо повествовалось про случай, как была укушена девушка, мужчина попытался отсосать яд. В результате девушка осталась жива, зато мужчина скончался.
В семнадцатом выпуске журнала «Смена» опубликован рассказ «Нянька Гленау». В двадцатом выпуске — рассказ «Личный приём»: сумбурное повествование про умершего старика, передоверившего право истребовать долг. В тридцать девятом выпуске «Экрана Рабочей газеты» — рассказ «Чужая вина» (позже публиковавшийся под названием «Запутанный круг»).
В этом же 1926 году Грин мог написать «Автобиографию» — об этом есть упоминания на некоторых источниках, тогда как сам текст следует признать за библиографическую редкость.
Скажем столь же кратко и про короткие произведения 1927 года. В седьмом выпуске журнала «Смена» опубликован рассказ «Легенда о Фергюсоне». В семнадцатом выпуске «Красной нивы» — рассказ «Два обещания», в двадцать девятом выпуске — рассказ «Слабость Даниэля Хортона». В альманахе «Война золотом» — повествование «Фанданго». Возможно, требующее более пристального к нему внимания, чего сделано не будет, по причинам и без того понятным.
В четвёртом выпуске издания «На досуге» Грин опубликовал рассказ «Четыре гинеи», сообщив про моряка, которого всю жизнь носило по морям, пока он не пообещал умирающему товарищу доставить сундук со скарбом вдове, для чего он всеми способами будет пытаться добраться до Англии, попутно даже вынужденный плавать на утлом плоту по волнам океана. Прибыв в Англию, пропив всё заработанное, общаясь с вдовой, моряк начнёт понимать, с кем именно он должен прожить остаток отведённых ему дней.
В этом же году опубликован рассказ «Мотылёк медной иглы» — часть так и не состоявшего более крупного произведения Грина, но принятый за первую главу коллективного романа «Большие пожары» под названием «Странный вечер», имея незначительные расхождения в повествовании. Знакомясь с предлагаемым сюжетом, читатель понимал, что продолжения вовсе не требовалось, так как Грин предлагал задаться разрешением проблемы, сам же выводя самую очевидную для него причину, в действительность которой можно вполне поверить. Дело оставалось за читателем, насколько он был готов следить за новыми частями коллективного романа на страницах «Огонька».
Ещё можно упомянуть ответы Грина на анкету журнала «30 дней», озаглавленную как «Один день», — это следует считать за библиографическую редкость.
Автор: Константин Трунин